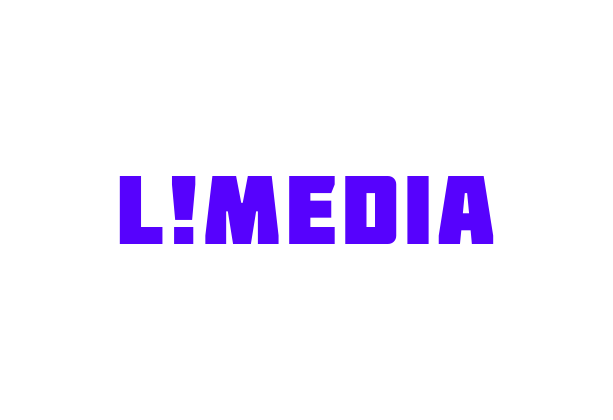В чем разница между психологом и психиатром? Обязательно ли тот, кто говорит сам с собой, — сумасшедший? На эти и многие другие вопросы ответила клинический психолог Кравченко Наталья Алексеевна.
Материал предназначен для лиц старше 18 лет.

Клинический психолог Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А.Усольцева Наталья Кравченко. Источник: Наталья Кравченко
— Первый и, наверное, самый часто задаваемый вопрос, который вызывает затруднения у многих людей: в чем отличие между психиатром и психологом?
— Психиатр влияет на пациента медикаментозно, то есть лекарствами воздействует на его физиологию. Он имеет право прикасаться, выписывать препараты. Операции, конечно же, психиатр не делает. А психолог, в свою очередь, общается именно с душой пациента, воздействует на него с помощью слов, взгляда. При этом в психологии тоже могут использоваться прикосновения: например массаж, как тактильная поддержка.
— Психиатр влияет на пациента медикаментозно, то есть лекарствами воздействует на его физиологию. Он имеет право прикасаться, выписывать препараты. Операции, конечно же, психиатр не делает. А психолог, в свою очередь, общается именно с душой пациента, воздействует на него с помощью слов, взгляда. При этом в психологии тоже могут использоваться прикосновения: например массаж, как тактильная поддержка.
— Чем клиническая психология отличается от общей?
— Общая психология, как ромашка, состоит из множества лепестков-ответвлений. Например, бывает инженерная психология, трудовая психология, психология семьи, психология летчиков и др. Как правило, направленность общей психологии — здоровые люди с жизненными трудностями: проблемы в отношениях, на работе и т. д. Клиническая же психология выходит за рамки общей и, помимо вышеперечисленного, исследует различные расстройства психики (неврозы, депрессии, тревожности, психосоматические заболевания) и помогает людям, страдающим от подобных заболеваний.
— Общая психология, как ромашка, состоит из множества лепестков-ответвлений. Например, бывает инженерная психология, трудовая психология, психология семьи, психология летчиков и др. Как правило, направленность общей психологии — здоровые люди с жизненными трудностями: проблемы в отношениях, на работе и т. д. Клиническая же психология выходит за рамки общей и, помимо вышеперечисленного, исследует различные расстройства психики (неврозы, депрессии, тревожности, психосоматические заболевания) и помогает людям, страдающим от подобных заболеваний.
— Клинический психолог не имеет право прибегать к медикаментозному лечению?
— Лекарственные рецепты мы никогда не выписываем. Я сейчас как раз читаю работу детского психиатра и врача высшей категории, Юрия Федоровича Антропова, на тему медикаментозного лечения психических расстройств. Он говорит, что к ароматерапии прибегают люди, которым уже ничего не помогает — они и лекарства, и все подряд перепробовали. Им хочется открыть для себя что-то действенное.
Воздействие на пациента с помощью эфирных масел — это не лекарственная форма терапии. Чаще всего прописывают 1–3 капли. Например, очень хорошая эссенция — капля розмарина, лимона и лаванды. Эликсир способствует снятию депрессии, оказывает легкий тонизирующий эффект. Розмарин и бергамот улучшают внимание, которое включает интеллектуальные функции. В особенности это полезно школьникам, сдающим экзамены. Вот таким образом психолог может воздействовать на пациента.
— Лекарственные рецепты мы никогда не выписываем. Я сейчас как раз читаю работу детского психиатра и врача высшей категории, Юрия Федоровича Антропова, на тему медикаментозного лечения психических расстройств. Он говорит, что к ароматерапии прибегают люди, которым уже ничего не помогает — они и лекарства, и все подряд перепробовали. Им хочется открыть для себя что-то действенное.
Воздействие на пациента с помощью эфирных масел — это не лекарственная форма терапии. Чаще всего прописывают 1–3 капли. Например, очень хорошая эссенция — капля розмарина, лимона и лаванды. Эликсир способствует снятию депрессии, оказывает легкий тонизирующий эффект. Розмарин и бергамот улучшают внимание, которое включает интеллектуальные функции. В особенности это полезно школьникам, сдающим экзамены. Вот таким образом психолог может воздействовать на пациента.
— Вы сказали, что люди прибегают к ароматерапии, когда уже отчаялись, перепробовав все. Какие средства медикаментозного лечения они могли принимать, если психолог не вправе выписывать лекарства?
— Конечно это такая шутка (улыбается). Я имела в виду, что не существует панацеи. На значительную часть успеха ароматерапии влияет самовнушение. Лечению в медикаментозной форме доверяют как тому же анальгину: выпьешь одну таблетку — голова пройдет. И в 50% случаев она перестает болеть, потому что человек верил в действенность лекарства. Когда есть серьезные таблетки, например, галоперидол (антипсихотический препарат, назначаемый при лечении шизофрении, синдрома Туретта и других психических расстройств — прим. ред.), кто поверит, что поможет капля розмарина?
Когда человек приходит и говорит: «Мне это не помогает, мне то не помогает», — я предлагаю ему ароматерапию не как развлечение или очередной миф, а как средство, способное разрешить его проблемы. Например, при трудностях засыпания или концентрации внимания, повышенной раздражительности. И спустя 14 дней пациенты говорят, что «капельки» действительно помогли.
Мой коллега Юрий Федорович рассказывал, как он вылечил девочку с мутизмом. Мутизм — состояние, которое бывает и при истерических реакциях, когда страдает личностное развитие, и при шизофрении. Оно характеризуется потерей речи — это может быть связано с тем, что человек не может двигать языком, либо же с тем, что он не хочет разговаривать. Пациентке Юрия Федоровича было примерно 10–14 лет, и у нее развился парез нижних конечностей — девочка не могла ходить. Она «упала» в регресс, и родители не раз привозили ее в психдиспансер в тяжелом состоянии. Впервые это случилось, когда лечение не помогло: оказывается, девочке не давали прописанные медикаменты. Во второй раз она поступила в еще более тяжелом состоянии. Тогда Юрий Федорович накапал ей на платочек три аромата: две капли лимона и лаванды и одну — розы. Уже на следующий день девочка начала разговаривать и пошла. Кажется, что это какое-то чудо, но, на самом деле, — реальность.
— Конечно это такая шутка (улыбается). Я имела в виду, что не существует панацеи. На значительную часть успеха ароматерапии влияет самовнушение. Лечению в медикаментозной форме доверяют как тому же анальгину: выпьешь одну таблетку — голова пройдет. И в 50% случаев она перестает болеть, потому что человек верил в действенность лекарства. Когда есть серьезные таблетки, например, галоперидол (антипсихотический препарат, назначаемый при лечении шизофрении, синдрома Туретта и других психических расстройств — прим. ред.), кто поверит, что поможет капля розмарина?
Когда человек приходит и говорит: «Мне это не помогает, мне то не помогает», — я предлагаю ему ароматерапию не как развлечение или очередной миф, а как средство, способное разрешить его проблемы. Например, при трудностях засыпания или концентрации внимания, повышенной раздражительности. И спустя 14 дней пациенты говорят, что «капельки» действительно помогли.
Мой коллега Юрий Федорович рассказывал, как он вылечил девочку с мутизмом. Мутизм — состояние, которое бывает и при истерических реакциях, когда страдает личностное развитие, и при шизофрении. Оно характеризуется потерей речи — это может быть связано с тем, что человек не может двигать языком, либо же с тем, что он не хочет разговаривать. Пациентке Юрия Федоровича было примерно 10–14 лет, и у нее развился парез нижних конечностей — девочка не могла ходить. Она «упала» в регресс, и родители не раз привозили ее в психдиспансер в тяжелом состоянии. Впервые это случилось, когда лечение не помогло: оказывается, девочке не давали прописанные медикаменты. Во второй раз она поступила в еще более тяжелом состоянии. Тогда Юрий Федорович накапал ей на платочек три аромата: две капли лимона и лаванды и одну — розы. Уже на следующий день девочка начала разговаривать и пошла. Кажется, что это какое-то чудо, но, на самом деле, — реальность.
— Иногда в кино показывают «эликсир правды». Если Вы говорите, что ароматерапия в силах поспособствовать чудесному исцелению, может ли история про существование «эликсира правды» быть невыдуманной?
— На своей практике я с таким не сталкивалась, но занималась кожно-гальваническими реакциями в рамках полиграфа. Этот аппарат измеряет скорость реакции. К пальцам человека подсоединяются датчики, которые измеряют его давление, напряжение и выделение пота.
Есть такая легенда: к царю пришли два спорщика. Один сказал, что другой украл у него козу, а второй отвечал, что он этого не делал. Царь не мог понять, кто из них врет, и положил в рот каждому по ложке риса. У одного из спорящих рис во рту размок. Значит, он говорил правду. А тот, кто перестал выделять слюнную железу, — врал. То есть, когда человек обманывает в подобной «острой» ситуации, у него идет работа симпатической и парасимпатической систем. В нашем случае, парасимпатической — сужение сосудов, выработка слюны. Это установленный факт. Существуют различные исследования, подтверждающие его.
— На своей практике я с таким не сталкивалась, но занималась кожно-гальваническими реакциями в рамках полиграфа. Этот аппарат измеряет скорость реакции. К пальцам человека подсоединяются датчики, которые измеряют его давление, напряжение и выделение пота.
Есть такая легенда: к царю пришли два спорщика. Один сказал, что другой украл у него козу, а второй отвечал, что он этого не делал. Царь не мог понять, кто из них врет, и положил в рот каждому по ложке риса. У одного из спорящих рис во рту размок. Значит, он говорил правду. А тот, кто перестал выделять слюнную железу, — врал. То есть, когда человек обманывает в подобной «острой» ситуации, у него идет работа симпатической и парасимпатической систем. В нашем случае, парасимпатической — сужение сосудов, выработка слюны. Это установленный факт. Существуют различные исследования, подтверждающие его.
— Почему, на Ваш взгляд, полиграф до сих пор не считается 100%-ным основанием полагать, что человек виновен в совершении преступления? В судебной экспертизе часто к нему прибегают, но его «мнение» не учитывается.
— Это косвенное доказательство. Мы, психологи и люди науки, всегда говорим, что есть эксперимент, который делается на выборке в миллион, в 10 тысяч, в тысячу человек. И неизменно в ней будет один человек, который отреагирует на то же действие или лекарство не так, как остальные. Его организм немного по-другому воспримет ситуацию. Но это не значит, что он больной или врет.
Поэтому не всегда можно говорить о 100%-ной гарантии. Допустим, когда зарождается болезнь, диагноз ставится не сразу. Проявляется определенная симптоматика, она по-своему развивается в течение какого-то времени. Мы должны сначала понаблюдать за человеком и только потом поставить диагноз.
— Это косвенное доказательство. Мы, психологи и люди науки, всегда говорим, что есть эксперимент, который делается на выборке в миллион, в 10 тысяч, в тысячу человек. И неизменно в ней будет один человек, который отреагирует на то же действие или лекарство не так, как остальные. Его организм немного по-другому воспримет ситуацию. Но это не значит, что он больной или врет.
Поэтому не всегда можно говорить о 100%-ной гарантии. Допустим, когда зарождается болезнь, диагноз ставится не сразу. Проявляется определенная симптоматика, она по-своему развивается в течение какого-то времени. Мы должны сначала понаблюдать за человеком и только потом поставить диагноз.
— Как определить психически нездорового человека?
— Психическое здоровье отличается от нездоровья по двум параметрам. Первый важный критерий: здоровый человек должен сам себя обеспечивать. Он не может находиться на иждивении. Мы сейчас берем стандартного человека, не принимая во внимание этапы становления личности, какие-то творческие поиски (гениальные люди часто вели аскетичный образ жизни). После выпуска из высшего образовательного учреждения, спустя непродолжительное время поисков, он обязан обеспечивать себя самостоятельно путем устройства на работу. Возможно, кто-то будет помогать ему в первое время, но потом человек не может быть на полном содержании.
И второй компонент личности в отношении ее психического здоровья-нездоровья — это нанесение вреда другому человеку. Вот эти два параметра: не быть иждивенцем, не причинять моральный и физический ущерб людям. Если человек вредит окружающим, мы тоже можем говорить о его психическом нездоровье.
— Психическое здоровье отличается от нездоровья по двум параметрам. Первый важный критерий: здоровый человек должен сам себя обеспечивать. Он не может находиться на иждивении. Мы сейчас берем стандартного человека, не принимая во внимание этапы становления личности, какие-то творческие поиски (гениальные люди часто вели аскетичный образ жизни). После выпуска из высшего образовательного учреждения, спустя непродолжительное время поисков, он обязан обеспечивать себя самостоятельно путем устройства на работу. Возможно, кто-то будет помогать ему в первое время, но потом человек не может быть на полном содержании.
И второй компонент личности в отношении ее психического здоровья-нездоровья — это нанесение вреда другому человеку. Вот эти два параметра: не быть иждивенцем, не причинять моральный и физический ущерб людям. Если человек вредит окружающим, мы тоже можем говорить о его психическом нездоровье.
— Это правило распространяется и на самоистязание?
— Да. Бывает экстрапунитивная (направлена на внешние объекты или окружение — прим. ред.) и интрапунитивная (направлена на самого себя — прим. ред.) реакции. В психологии это рассматривается просто как агрессивность.
Пример интрапунитивной реакции: человек высказывает суицидальные мысли, рассуждает о смерти или пытается с собой что-то сделать. Если парень проходит осмотр медкомиссии перед поступлением на военную службу и у него находят характерные порезы, то там никто не будет разбираться в причинах и вдаваться в подробности. Это в любом случае плохой признак, когда человек разрушает собственный «панцирь», свою защиту, свою кожу.
— Да. Бывает экстрапунитивная (направлена на внешние объекты или окружение — прим. ред.) и интрапунитивная (направлена на самого себя — прим. ред.) реакции. В психологии это рассматривается просто как агрессивность.
Пример интрапунитивной реакции: человек высказывает суицидальные мысли, рассуждает о смерти или пытается с собой что-то сделать. Если парень проходит осмотр медкомиссии перед поступлением на военную службу и у него находят характерные порезы, то там никто не будет разбираться в причинах и вдаваться в подробности. Это в любом случае плохой признак, когда человек разрушает собственный «панцирь», свою защиту, свою кожу.
— Что касается самообеспечения: если мужчина в 40 лет полностью зависит от своей матери — это диагноз?
— Да, но не симптом. Если человек обращается (к психологу — прим. автора) и рассказывает об этом, я буду более глубоко его рассматривать. Симптомы обычно касаются не социального: например, у пациента болит голова или ему трудно засыпать.
Если ко мне приходит человек и говорит, что он не работает, я спрашиваю: «А почему Вы не работаете? А сколько Вы не работаете?». Он может не работать полгода, потому что не получается устроиться по специальности. Но если человек без работы 5 лет, то это уже странно. Тогда я, не стесняясь, спрашиваю: «А как же Вы живете? За счет чего? Вам же надо покушать, за свет заплатить?». Если человек воспринимает такое положение как норму, это говорит о сниженных мотивации и социальном взаимодействии, что в некоторых случаях оказывается симптомом аутичности.
— Да, но не симптом. Если человек обращается (к психологу — прим. автора) и рассказывает об этом, я буду более глубоко его рассматривать. Симптомы обычно касаются не социального: например, у пациента болит голова или ему трудно засыпать.
Если ко мне приходит человек и говорит, что он не работает, я спрашиваю: «А почему Вы не работаете? А сколько Вы не работаете?». Он может не работать полгода, потому что не получается устроиться по специальности. Но если человек без работы 5 лет, то это уже странно. Тогда я, не стесняясь, спрашиваю: «А как же Вы живете? За счет чего? Вам же надо покушать, за свет заплатить?». Если человек воспринимает такое положение как норму, это говорит о сниженных мотивации и социальном взаимодействии, что в некоторых случаях оказывается симптомом аутичности.
— Что касается семьи или отношений: их наличие или отсутствие в определенном возрасте может стать показателем того, что человек «ненормальный»?
— Нет. Все, что касается социального, — никогда не симптом. Это либо предпосылки к более конкретному рассмотрению случая, либо ситуативная проблема, которую можно решить, либо уже болезнь. Отсутствие семьи или отношений — такое бывает. Это выбор человека, его личное решение.
— Нет. Все, что касается социального, — никогда не симптом. Это либо предпосылки к более конкретному рассмотрению случая, либо ситуативная проблема, которую можно решить, либо уже болезнь. Отсутствие семьи или отношений — такое бывает. Это выбор человека, его личное решение.
— Если человек говорит сам с собой, это прямой признак расстройства психики?
— Не всегда. Со стороны это может показаться отклонением, но если мы начинаем рассматривать проблему глубже, выясняется, что разговоры с самим собой — просто способ адаптации к стрессовым ситуациям.
У меня была знакомая, мы жили с ней в общежитии, в соседних комнатах. Она мне говорила: «Наташ, мне 45 лет, я все время одна. Если я буду разговаривать сама с собой, ты, пожалуйста, имей это в виду». А она майор юстиции, в Минюсте сейчас служит. Достаточно успешная женщина, но на работе проводила очень много времени, могла и поздней ночью вернуться. Я думаю, что ее разговоры с собой — какой-то военный метод, взятый у сотрудников ФСБ и УВД. Она мне говорила: «Я сама с собой разговариваю, сама себе отвечаю, потому что всю жизнь живу одна и для меня это выход». Я поняла это так: она не хочет, чтобы у нее внутри была словесная вата, жвачка умственная. В некотором смысле, вид самодисциплины.
— Не всегда. Со стороны это может показаться отклонением, но если мы начинаем рассматривать проблему глубже, выясняется, что разговоры с самим собой — просто способ адаптации к стрессовым ситуациям.
У меня была знакомая, мы жили с ней в общежитии, в соседних комнатах. Она мне говорила: «Наташ, мне 45 лет, я все время одна. Если я буду разговаривать сама с собой, ты, пожалуйста, имей это в виду». А она майор юстиции, в Минюсте сейчас служит. Достаточно успешная женщина, но на работе проводила очень много времени, могла и поздней ночью вернуться. Я думаю, что ее разговоры с собой — какой-то военный метод, взятый у сотрудников ФСБ и УВД. Она мне говорила: «Я сама с собой разговариваю, сама себе отвечаю, потому что всю жизнь живу одна и для меня это выход». Я поняла это так: она не хочет, чтобы у нее внутри была словесная вата, жвачка умственная. В некотором смысле, вид самодисциплины.
— Руминация? (процесс непрерывного прокручивания в голове тревожных и неприятных мыслей, размышление об их причинах и последствиях — прим. ред)?
— Да, наверное, да.
— Да, наверное, да.
— Такой тотальный самоконтроль — это нормально?
— Это уже наше отношение, оценка. По двум критериям, которые мы обсуждали, она психически здорова: сама себя обеспечивала и не наносила никому ни физического, ни морального вреда. Я говорю о том, что она социально-адаптивна и социально-успешна. В этом смысле мы не можем говорить о психическом нездоровье человека. Только о том, что если бы у нее было больше свободного времени, возможно, ее жизнь была бы краше. Ей не хватало общения, и она находила такое решение этой проблеме.
— Это уже наше отношение, оценка. По двум критериям, которые мы обсуждали, она психически здорова: сама себя обеспечивала и не наносила никому ни физического, ни морального вреда. Я говорю о том, что она социально-адаптивна и социально-успешна. В этом смысле мы не можем говорить о психическом нездоровье человека. Только о том, что если бы у нее было больше свободного времени, возможно, ее жизнь была бы краше. Ей не хватало общения, и она находила такое решение этой проблеме.