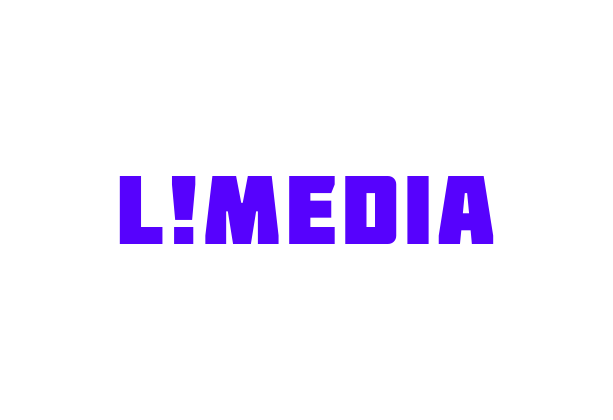Может ли чужая страна стать новым домом, когда на пути к стабильности воздвигнуты непреодолимые стены? Для семьи Лолы, мигрантов из Узбекистана, Россия стала серьезнейшей проверкой на прочность.
«Покажи свою рожу», — короткое сообщение от арендодателя, адресованное Лоле. Еще одно объявление, еще один отказ. Найти квартиру в Москве оказалось куда сложнее, чем устроиться на работу. Кажется, все решается за одну фразу — ее мягкое «добрый день» сразу выдает акцент, и этого достаточно, чтобы люди перестали слушать.
Мы познакомились с Лолой в спортивном комплексе, где она работает уборщицей, а я — администратором. Ей 42 года, 10 лет назад вместе с мужем и детьми перебралась из Ташкента в Москву. Причиной переезда, как и у многих других соотечественников Лолы, стало желание зарабатывать больше. По образованию Лола — преподаватель биологии, работа по профессии в школе в родном городе приносила ей в два, а то и в три раза меньший заработок, чем она имеет сейчас, работая уборщицей. Каждое утро она приходит в спорткомплекс первой, еще до того, как зал заполняется посетителями. Лола не жалуется: моет зеркала, протирает тренажеры, кивает в ответ на невнимательное «здравствуйте» и «до свидания» от тех, кто даже не смотрит на нее и с сотого раза не может услышать ее просьбу надевать бахилы. Она привыкла к такой невидимости.
Когда арендодатель повысил плату за квартиру, привычный жизненный уклад пошатнулся. Лоле было страшно связываться с риэлторами самой, ей нужна была помощь. «На меня просто не отвечают», — сказала она. Пришлось звонить от ее имени: договариваться, рассказывать про «себя». Но как только Лола приходила на просмотр, разговор сводился к холодному «нет».
В таких отказах — вся суть жизни мигрантов из Узбекистана в России. Они строят дома, убирают улицы, нянчат детей, но когда речь заходит о квартире, поликлинике или просто уважении, их будто не существует. Лола — не исключение. Она не жалуется, но иногда, задержавшись после работы, смотрит на меня, и ее глаза говорят за нее: «Устала».
Ее история — это лишь один пример. За сухими цифрами статистики стоят реальные люди, которые каждый день борются за место в большом чужом городе.
Лола не знала, что в Москве даже простые вещи превращаются в битву. Снять квартиру, записать детей в школу, пройти обычный медосмотр. Каждый шаг, который для других дается легко, для нее становится испытанием. И дело даже не в деньгах. Лола готова платить, работать, ждать, но каждый раз упирается в стену: «Не сдаем», «Мы вам перезвоним», «Попробуйте в другом месте».
Лола работает с утра до вечера. 6 дней в неделю, иногда — больше. Она не жалуется — это ее способ держать семью на плаву. И таких, как она, в Москве — тысячи. По данным Министерства внутренних дел России, за прошлый год из Узбекистана в страну прибыло свыше 1,5 миллионов трудовых мигрантов. Они массово востребованы на стройплощадках, в сфере клининга и продажах. Исследования НИУ ВШЭ показали, что около 80% узбекских работников заняты в низком сегменте рынка труда. Они возводят здания, поддерживают чистоту городов, трудятся официантами и поварами, оставаясь при этом «невидимками» для общества.
«Серьезные проблемы возникают тогда, когда пытаешься вести нормальный образ жизни», — подчеркивает Лола. Ее честный труд и старательность не защищают от дискриминации при поиске жилья. «Когда спрашивают “Вы узбечка?”, видимо, сразу предполагается, что в квартире появятся десятки родственников», — рассказывает она. Такие вопросы становятся не просто проверкой, а предвзятым обвинением.
Эта ситуация говорит о глубоком разрыве между реальным вкладом мигрантов и их восприятием в российском обществе: они трудятся на благо страны, но сталкиваются с унизительными предубеждениями. Анализ 10 тыс. объявлений ЦИАН по аренде жилья в Москве выявил, что 1,2 тыс. (12%) содержат явные маркеры этнической предвзятости в отношении потенциальных нанимателей (включая 1,17 тыс. — с требованием «славяне»). Приведенные данные не охватывают инциденты скрытой дискриминации, когда ограничения выявляются лишь на стадии коммуникации с арендодателем или непосредственно при осмотре объекта недвижимости.
Почему этническая принадлежность в действительности становится решающим фактором? Дело в том, что большинство арендодателей сдают свои квартиры нелегально. Эксперты РБК утверждают, что до 95% рынка арендного жилья находится в тени, процветает «серая» аренда жилья (сдача помещений без уплаты налогов). Совокупность двух факторов: стереотипы и нелегальная деятельность самих арендодателей, — порождает в собственниках страх, что в один прекрасный день «по их душу» нагрянут правоохранительные органы. Поэтому даже риелторы советуют звонить от русского имени — иногда это помогает договориться хотя бы о просмотре. Но Лола каждый раз видит, как разговор меняется, стоит ей войти в квартиру.
Сложно не только Лоле, но и ее детям. 14-летний Азиз учится в московской школе и мечтает стать инженером. Малике — 9, она мечтает быть врачом. Оба говорят на русском так же хорошо, как и их одноклассники, но это не спасает от вопросов. «Мама, почему меня называют чуркой?» — однажды спросила Малика. Лола не знала, что ответить.
Фонд поддержки детей мигрантов приводит тревожные цифры: до 40% детей из мигрантских семей сталкиваются с насмешками и предвзятым отношением в школах. Со слов Лолы учителя иногда не вмешиваются, считая это «детскими конфликтами». Но именно эти «конфликты» надолго травмируют детскую психику, нанося ей непоправимый урон. Лола учит детей гордиться своими корнями. Она рассказывает им об Узбекистане, его национальной кухне и родных традициях. «Я не хочу, чтобы они стеснялись. Но мне хочется, чтобы их здесь приняли», — говорит Лола.
Когда Азиз простудился, Лола пошла с ним в поликлинику. Полис у нее был, но в регистратуре ей сказали: «Обратитесь в частную клинику». Она не стала спорить: «Смысла нет — они все равно не помогут». По данным «Центра миграционных исследований», около 35% мигрантов в России сталкиваются с отказами в медицинской помощи, несмотря на наличие всех документов. Причины разные: от банального незнания персоналом законов до скрытой ксенофобии.
Справиться с бюрократией тоже нелегко. «Любая бумажка — это день потерянного времени», — рассказывает Лола. Она часто смеется, что на работу ей проще устроиться, чем записаться на прием к врачу.
На фоне всех этих трудностей правительство ужесточает требования к мигрантам. С 2023 года обсуждается идея «фильтрации» по образованию и квалификации. Приоритет будет у высокодипломированных специалистов: инженеров, программистов, врачей. Лола об этом слышала и говорит: «Правильно, нужны хорошие специалисты. Но кто тогда будет убирать города, строить дома и работать там, где местные не хотят?».
Эксперты подтверждают ее опасения. «Без миграционного притока наши потери были бы просто катастрофическими», — считает экономист Ольга Чудиновских. При этом, по ее словам, миграционная политика должна быть не только жесткой, но и справедливой. Нужны программы для социальной адаптации: курсы языка, помощь детям в школах, проекты по борьбе с предвзятостью.
Лола не сдается. «Моя мечта — открыть кафе узбекской кухни. Мой муж по образованию повар. Пусть они приходят, едят наш плов и понимают, что мы такие же, как они». Для нее это не просто бизнес-идея. Это ее способ сказать: «Мы здесь, мы тоже люди».
Каждый день она встает в пять утра. Она работает ради детей, ради их будущего. Лола верит, что однажды они перестанут быть «чужими». Возможно, не сразу, но это будущее стоит того, чтобы бороться.
История Лолы — это не просто личная драма. Многочисленные мигранты из Центральной Азии, особенно из Узбекистана, составляют незримый костяк российского общества: ежедневно они трудятся на рабочих местах, формирующих инфраструктуру городов, оставаясь фактически «за кадром».
Миграционный вопрос требует комплексного подхода: необходимо одновременно укреплять контроль за притоком квалифицированной рабочей силы, но не менее важно обеспечить поддержку уже интегрированных мигрантов для предотвращения социального раскола. Региональные примеры показывают эффективность таких мер — например, проект «Дети Петербурга» эффективно реализует программы по социокультурной адаптации детей мигрантов с 2012 года. В Москве подобные инициативы остаются недостаточными. Специалисты призывают активно развивать русскоязычные курсы для взрослых мигрантов, адаптационные программы для детей и просветительские кампании против предубеждений.
Изменение ситуации требует не только законодательных шагов, но и эмоционального включения общества. Мигранты вроде Лолы стремятся к обычной жизни, чтобы иметь возможность воспитывать детей в стабильности. Для этого местному населению нужно быть более открытым к мигрантам и их проблемам, не подвергаясь воздействию предрассудков.
Пока же Лола каждый день выходит на работу и продолжает верить в лучшее. «Все будет», — говорит она. И в этих словах — ее сила и сила тысяч таких же людей, которые строят свое будущее в чужом городе, несмотря ни на что.
Мы познакомились с Лолой в спортивном комплексе, где она работает уборщицей, а я — администратором. Ей 42 года, 10 лет назад вместе с мужем и детьми перебралась из Ташкента в Москву. Причиной переезда, как и у многих других соотечественников Лолы, стало желание зарабатывать больше. По образованию Лола — преподаватель биологии, работа по профессии в школе в родном городе приносила ей в два, а то и в три раза меньший заработок, чем она имеет сейчас, работая уборщицей. Каждое утро она приходит в спорткомплекс первой, еще до того, как зал заполняется посетителями. Лола не жалуется: моет зеркала, протирает тренажеры, кивает в ответ на невнимательное «здравствуйте» и «до свидания» от тех, кто даже не смотрит на нее и с сотого раза не может услышать ее просьбу надевать бахилы. Она привыкла к такой невидимости.
Когда арендодатель повысил плату за квартиру, привычный жизненный уклад пошатнулся. Лоле было страшно связываться с риэлторами самой, ей нужна была помощь. «На меня просто не отвечают», — сказала она. Пришлось звонить от ее имени: договариваться, рассказывать про «себя». Но как только Лола приходила на просмотр, разговор сводился к холодному «нет».
В таких отказах — вся суть жизни мигрантов из Узбекистана в России. Они строят дома, убирают улицы, нянчат детей, но когда речь заходит о квартире, поликлинике или просто уважении, их будто не существует. Лола — не исключение. Она не жалуется, но иногда, задержавшись после работы, смотрит на меня, и ее глаза говорят за нее: «Устала».
Ее история — это лишь один пример. За сухими цифрами статистики стоят реальные люди, которые каждый день борются за место в большом чужом городе.
Лола не знала, что в Москве даже простые вещи превращаются в битву. Снять квартиру, записать детей в школу, пройти обычный медосмотр. Каждый шаг, который для других дается легко, для нее становится испытанием. И дело даже не в деньгах. Лола готова платить, работать, ждать, но каждый раз упирается в стену: «Не сдаем», «Мы вам перезвоним», «Попробуйте в другом месте».
Лола работает с утра до вечера. 6 дней в неделю, иногда — больше. Она не жалуется — это ее способ держать семью на плаву. И таких, как она, в Москве — тысячи. По данным Министерства внутренних дел России, за прошлый год из Узбекистана в страну прибыло свыше 1,5 миллионов трудовых мигрантов. Они массово востребованы на стройплощадках, в сфере клининга и продажах. Исследования НИУ ВШЭ показали, что около 80% узбекских работников заняты в низком сегменте рынка труда. Они возводят здания, поддерживают чистоту городов, трудятся официантами и поварами, оставаясь при этом «невидимками» для общества.
«Серьезные проблемы возникают тогда, когда пытаешься вести нормальный образ жизни», — подчеркивает Лола. Ее честный труд и старательность не защищают от дискриминации при поиске жилья. «Когда спрашивают “Вы узбечка?”, видимо, сразу предполагается, что в квартире появятся десятки родственников», — рассказывает она. Такие вопросы становятся не просто проверкой, а предвзятым обвинением.
Эта ситуация говорит о глубоком разрыве между реальным вкладом мигрантов и их восприятием в российском обществе: они трудятся на благо страны, но сталкиваются с унизительными предубеждениями. Анализ 10 тыс. объявлений ЦИАН по аренде жилья в Москве выявил, что 1,2 тыс. (12%) содержат явные маркеры этнической предвзятости в отношении потенциальных нанимателей (включая 1,17 тыс. — с требованием «славяне»). Приведенные данные не охватывают инциденты скрытой дискриминации, когда ограничения выявляются лишь на стадии коммуникации с арендодателем или непосредственно при осмотре объекта недвижимости.
Почему этническая принадлежность в действительности становится решающим фактором? Дело в том, что большинство арендодателей сдают свои квартиры нелегально. Эксперты РБК утверждают, что до 95% рынка арендного жилья находится в тени, процветает «серая» аренда жилья (сдача помещений без уплаты налогов). Совокупность двух факторов: стереотипы и нелегальная деятельность самих арендодателей, — порождает в собственниках страх, что в один прекрасный день «по их душу» нагрянут правоохранительные органы. Поэтому даже риелторы советуют звонить от русского имени — иногда это помогает договориться хотя бы о просмотре. Но Лола каждый раз видит, как разговор меняется, стоит ей войти в квартиру.
Сложно не только Лоле, но и ее детям. 14-летний Азиз учится в московской школе и мечтает стать инженером. Малике — 9, она мечтает быть врачом. Оба говорят на русском так же хорошо, как и их одноклассники, но это не спасает от вопросов. «Мама, почему меня называют чуркой?» — однажды спросила Малика. Лола не знала, что ответить.
Фонд поддержки детей мигрантов приводит тревожные цифры: до 40% детей из мигрантских семей сталкиваются с насмешками и предвзятым отношением в школах. Со слов Лолы учителя иногда не вмешиваются, считая это «детскими конфликтами». Но именно эти «конфликты» надолго травмируют детскую психику, нанося ей непоправимый урон. Лола учит детей гордиться своими корнями. Она рассказывает им об Узбекистане, его национальной кухне и родных традициях. «Я не хочу, чтобы они стеснялись. Но мне хочется, чтобы их здесь приняли», — говорит Лола.
Когда Азиз простудился, Лола пошла с ним в поликлинику. Полис у нее был, но в регистратуре ей сказали: «Обратитесь в частную клинику». Она не стала спорить: «Смысла нет — они все равно не помогут». По данным «Центра миграционных исследований», около 35% мигрантов в России сталкиваются с отказами в медицинской помощи, несмотря на наличие всех документов. Причины разные: от банального незнания персоналом законов до скрытой ксенофобии.
Справиться с бюрократией тоже нелегко. «Любая бумажка — это день потерянного времени», — рассказывает Лола. Она часто смеется, что на работу ей проще устроиться, чем записаться на прием к врачу.
На фоне всех этих трудностей правительство ужесточает требования к мигрантам. С 2023 года обсуждается идея «фильтрации» по образованию и квалификации. Приоритет будет у высокодипломированных специалистов: инженеров, программистов, врачей. Лола об этом слышала и говорит: «Правильно, нужны хорошие специалисты. Но кто тогда будет убирать города, строить дома и работать там, где местные не хотят?».
Эксперты подтверждают ее опасения. «Без миграционного притока наши потери были бы просто катастрофическими», — считает экономист Ольга Чудиновских. При этом, по ее словам, миграционная политика должна быть не только жесткой, но и справедливой. Нужны программы для социальной адаптации: курсы языка, помощь детям в школах, проекты по борьбе с предвзятостью.
Лола не сдается. «Моя мечта — открыть кафе узбекской кухни. Мой муж по образованию повар. Пусть они приходят, едят наш плов и понимают, что мы такие же, как они». Для нее это не просто бизнес-идея. Это ее способ сказать: «Мы здесь, мы тоже люди».
Каждый день она встает в пять утра. Она работает ради детей, ради их будущего. Лола верит, что однажды они перестанут быть «чужими». Возможно, не сразу, но это будущее стоит того, чтобы бороться.
История Лолы — это не просто личная драма. Многочисленные мигранты из Центральной Азии, особенно из Узбекистана, составляют незримый костяк российского общества: ежедневно они трудятся на рабочих местах, формирующих инфраструктуру городов, оставаясь фактически «за кадром».
Миграционный вопрос требует комплексного подхода: необходимо одновременно укреплять контроль за притоком квалифицированной рабочей силы, но не менее важно обеспечить поддержку уже интегрированных мигрантов для предотвращения социального раскола. Региональные примеры показывают эффективность таких мер — например, проект «Дети Петербурга» эффективно реализует программы по социокультурной адаптации детей мигрантов с 2012 года. В Москве подобные инициативы остаются недостаточными. Специалисты призывают активно развивать русскоязычные курсы для взрослых мигрантов, адаптационные программы для детей и просветительские кампании против предубеждений.
Изменение ситуации требует не только законодательных шагов, но и эмоционального включения общества. Мигранты вроде Лолы стремятся к обычной жизни, чтобы иметь возможность воспитывать детей в стабильности. Для этого местному населению нужно быть более открытым к мигрантам и их проблемам, не подвергаясь воздействию предрассудков.
Пока же Лола каждый день выходит на работу и продолжает верить в лучшее. «Все будет», — говорит она. И в этих словах — ее сила и сила тысяч таких же людей, которые строят свое будущее в чужом городе, несмотря ни на что.