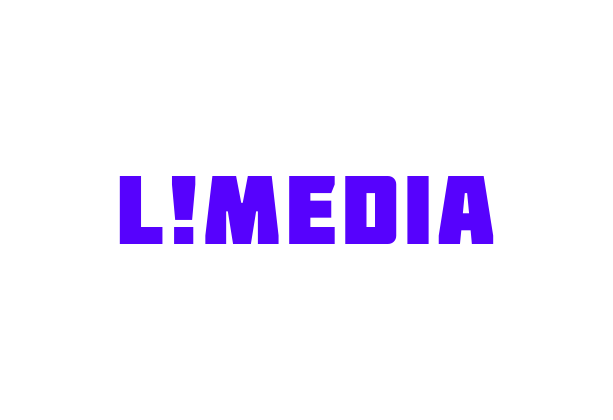Антиутопия и утопия — это, казалось бы, два полярных жанра. Но при рассмотрении выясняется, что они не только похожи, но и описывают одно мироустройство. Почему так и правда ли, что антиутопия — это новая утопия? Разбираемся в новом материале L!.
В мире сейчас наблюдается очередной рост популярности жанра антиутопии. «1984» (книга Джорджа Оруэлла — прим. ред.) — классика, которая и по сей день бьет все рекорды; недавно вышедший роман Осы Эриксдоттер «Бойня» и приобретший известность благодаря экранизации «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд снова вывели этот жанр в список самых популярных.
Представим типичный мир антиутопии: из всех медиа вещают, что человек живет в идеальном обществе, но на деле власть оказывается жестокой и беспощадной тиранией, уничтожающей всех несогласных. Человеческая жизнь обесценена, а люди максимально унифицированы, обезличены. Государство якобы желает только лучшего и оправдывает свои действия высшим благом. Все равны, никто не выделяется. Сейчас такой расклад кажется ужасным любому цивилизованному человеку. Но что, если раньше такое государственное устройство считалось вовсе не антиутопией, а утопией?
Почему люди воспринимали такой угнетающий мир идеальным и где тонкая грань между этими двумя жанрами? Разбираемся, почему утопия стала антиутопией.
Первая попытка представить идеальный мир будущего принадлежала еще Платону (древнегреческий философ — прим. ред.), написавшему труд «Государство». В нем он описал свое представление об идеальном обществе, которое делится на три касты: стражей, земледельцев и философов. Первые занимаются военной деятельностью, причем их жизнь максимально унифицирована. Все имущество у них общее, вплоть до жен, а дети воспитываются отдельно от родителей. Земледельцы — это ремесленники, обеспечивающие экономическое благосостояние страны. А философы — правящая верхушка. Платон, естественно, относил себя к этой касте.
Несмотря на то, что утопия — жанр, который берет свое начало из античности, назвали его в честь трактата «Утопия» Томаса Мора. Повествование публицист построил на сравнении Европы того времени и прекрасного острова Утопии. Если старый свет грешил нерациональной экономикой, классовым неравенством, тираническим абсолютизмом и бесконечными войнами, то Утопия представлялась уголком блаженства.
Утопия — демократическое государство, в котором отсутствует частная собственность. Основное занятие его жителей — земледелие. Также каждый обязан обучаться какому-то ремеслу. Время труда и отдыха в государстве определены законом, а основа хозяйства — всеобщая трудовая повинность. В противопоставление политике Европы утопийцы воюют только для самозащиты. На острове нет смертной казни — за тяжелые преступления виновный наказывается рабством. Интересна также религия райского места. Официального вероисповедания нет, необходимо только верить в бога, провидение и воздаяние после смерти. Помимо этого, в Утопии присутствует полная унификация материальных благ — все у всех одинаковое, никто не ущемлен и не привилегирован.
Казалось бы, Мор описал идеальное, в его понимании, государство, отличавшееся от мира войн и абсолютизма. Однако более подробное знакомство с этой идиллией раскрывает в ней зримые черты казарменного социализма, внедрить который можно лишь открытым насилием.
И уж полностью картина равенства разрушается, когда выясняется, что жизнь в Утопии Томаса Мора в значительной мере основывается на рабстве. Невольниками выполняются все грязные и тяжелые работы.
Другая утопия, в значительной степени повлиявшая на становление жанра, это «Город Солнца» итальянского автора Томмазо Кампанеллы. В ней идеи социализма и обезличивания человека во имя коллективизма представлены гораздо радикальнее, чем в трактате Томаса Мора.
Политическое устройство внешне походит на теократию, так как глава государства — священник, называемый «Солнцем» или «Метафизиком».
В городе Солнца главенствует идея общности всех сфер жизни, регламентируемая администрацией. Также, как и в Утопии, процветает всеобщая трудовая повинность и унификация жизни. В часы отдыха запрещен сидячий досуг, а свободное время должно использоваться для научной деятельности, бесед и литературы. В современности мало кто захотел бы жить в такой утопии.
Какие же общие черты произведений этого жанра? Во-первых, это всеобщая трудовая повинность. Надо понимать, что и Томас Мор, и Томмазо Кампанелла писали свои труды в мире широкого классового расслоения, в котором аристократия не работала, но при этом щедро тратила. Это не устраивало авторов, так что их позиция насчет труда абсолютно понятна. То же самое можно сказать и про их мнение относительно унификации жизни всех граждан. Они стремились представить мир, где все люди равны и не существует сословной иерархии. Всепоглощающая унификация — это довольно радикальное решение проблемы, но очень показательное. Сюда же относится и принцип отсутствия личной собственности. Когда нет индивидуального имущества, показателя богатства, нет и классового превосходства. Однако стремление авторов регламентировать все сферы жизни, пожалуй, самый спорный момент. Современному человеку такая политика покажется посягательством на его свободу и тиранией. Тогда же авторы видели в этом решение ряда социальных проблем. Когда все одинаковы, нет смысла во вражде друг с другом.
Кажется, что и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, и «Утопия» Томаса Мора не рисуют образ идеального мироустройства. Более того, они намного больше похожи на антиутопии. Сравним их с одной из самых известных антиутопий — «Мы» Евгения Замятина.
По сюжету романа в мире отсутствует какая бы то ни было индивидуальность — каждому дается номер, по которому люди различаются между собой. Живут они в стеклянных домах, чтобы полиции было легче наблюдать за ними. Института брака не существует. Центральная догма государства заключается в том, что счастье и свобода не могут быть совместимы, поэтому сейчас людям даровано счастье, но отобрана свобода. Несмотря на все это, основа государства вполне демократическая, хоть и условно — ежегодно жители единогласно избирают Благодетеля.
На примере «Мы» Евгения Замятина выделяются основные принципы антиутопии: унификация и полное отсутствие индивидуальности, практически полное вмешательство власти в частную жизнь человека, отсутствие института семьи, всеобщей трудовой повинности и, как бы странно это ни звучало, видимого демократического основания. Погодите-ка, но это же все те черты, что были перечислены при анализе утопий.
Вот тут и появляется вопрос, как утопия превратилась в антиутопию. Во-первых, со сменой эпох поменялись и ценности человечества. Мор и Кампанелла писали во времена, когда человеческая жизнь и индивидуальность ценились намного меньше, чем сейчас, а основными проблемами были войны, классовое расслоение и самодержавие. Мода на антиутопии же началась в прошлом веке, когда жизнь, личность и свобода человека стали высшей ценностью. Поэтому идеальный мир Мора и Кампанеллы кажется нам ужасным, угнетающим и тираническим.
Во-вторых, все зависит от наблюдателя. Если Мор и Кампанелла действительно восхищались придуманными ими мирами, то в антиутопиях взгляд на режим обычно ведется от лица несогласных, бунтарей, выступающих против подконтрольной власти массе. В «1984» Джорджа Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Мы» Евгения Замятина и других антиутопиях главными героями выступают люди, которые проходят путь от конформизма (беспринципное следование взглядам, мнению и поведению господствующего большинства — прим. ред.) до яростной борьбы с действующим мироустройством.
Переход утопии к антиутопии объясняется изменением ценностных ориентиров в обществе. Так что неудивительно, что один жанр породил впоследствии другой. Утопия и антиутопия — две стороны одной медали, и все зависит от того, на какую из них посмотреть.
Представим типичный мир антиутопии: из всех медиа вещают, что человек живет в идеальном обществе, но на деле власть оказывается жестокой и беспощадной тиранией, уничтожающей всех несогласных. Человеческая жизнь обесценена, а люди максимально унифицированы, обезличены. Государство якобы желает только лучшего и оправдывает свои действия высшим благом. Все равны, никто не выделяется. Сейчас такой расклад кажется ужасным любому цивилизованному человеку. Но что, если раньше такое государственное устройство считалось вовсе не антиутопией, а утопией?
Почему люди воспринимали такой угнетающий мир идеальным и где тонкая грань между этими двумя жанрами? Разбираемся, почему утопия стала антиутопией.
Первая попытка представить идеальный мир будущего принадлежала еще Платону (древнегреческий философ — прим. ред.), написавшему труд «Государство». В нем он описал свое представление об идеальном обществе, которое делится на три касты: стражей, земледельцев и философов. Первые занимаются военной деятельностью, причем их жизнь максимально унифицирована. Все имущество у них общее, вплоть до жен, а дети воспитываются отдельно от родителей. Земледельцы — это ремесленники, обеспечивающие экономическое благосостояние страны. А философы — правящая верхушка. Платон, естественно, относил себя к этой касте.
Несмотря на то, что утопия — жанр, который берет свое начало из античности, назвали его в честь трактата «Утопия» Томаса Мора. Повествование публицист построил на сравнении Европы того времени и прекрасного острова Утопии. Если старый свет грешил нерациональной экономикой, классовым неравенством, тираническим абсолютизмом и бесконечными войнами, то Утопия представлялась уголком блаженства.
Утопия — демократическое государство, в котором отсутствует частная собственность. Основное занятие его жителей — земледелие. Также каждый обязан обучаться какому-то ремеслу. Время труда и отдыха в государстве определены законом, а основа хозяйства — всеобщая трудовая повинность. В противопоставление политике Европы утопийцы воюют только для самозащиты. На острове нет смертной казни — за тяжелые преступления виновный наказывается рабством. Интересна также религия райского места. Официального вероисповедания нет, необходимо только верить в бога, провидение и воздаяние после смерти. Помимо этого, в Утопии присутствует полная унификация материальных благ — все у всех одинаковое, никто не ущемлен и не привилегирован.
Казалось бы, Мор описал идеальное, в его понимании, государство, отличавшееся от мира войн и абсолютизма. Однако более подробное знакомство с этой идиллией раскрывает в ней зримые черты казарменного социализма, внедрить который можно лишь открытым насилием.
И уж полностью картина равенства разрушается, когда выясняется, что жизнь в Утопии Томаса Мора в значительной мере основывается на рабстве. Невольниками выполняются все грязные и тяжелые работы.
Другая утопия, в значительной степени повлиявшая на становление жанра, это «Город Солнца» итальянского автора Томмазо Кампанеллы. В ней идеи социализма и обезличивания человека во имя коллективизма представлены гораздо радикальнее, чем в трактате Томаса Мора.
Политическое устройство внешне походит на теократию, так как глава государства — священник, называемый «Солнцем» или «Метафизиком».
В городе Солнца главенствует идея общности всех сфер жизни, регламентируемая администрацией. Также, как и в Утопии, процветает всеобщая трудовая повинность и унификация жизни. В часы отдыха запрещен сидячий досуг, а свободное время должно использоваться для научной деятельности, бесед и литературы. В современности мало кто захотел бы жить в такой утопии.
Какие же общие черты произведений этого жанра? Во-первых, это всеобщая трудовая повинность. Надо понимать, что и Томас Мор, и Томмазо Кампанелла писали свои труды в мире широкого классового расслоения, в котором аристократия не работала, но при этом щедро тратила. Это не устраивало авторов, так что их позиция насчет труда абсолютно понятна. То же самое можно сказать и про их мнение относительно унификации жизни всех граждан. Они стремились представить мир, где все люди равны и не существует сословной иерархии. Всепоглощающая унификация — это довольно радикальное решение проблемы, но очень показательное. Сюда же относится и принцип отсутствия личной собственности. Когда нет индивидуального имущества, показателя богатства, нет и классового превосходства. Однако стремление авторов регламентировать все сферы жизни, пожалуй, самый спорный момент. Современному человеку такая политика покажется посягательством на его свободу и тиранией. Тогда же авторы видели в этом решение ряда социальных проблем. Когда все одинаковы, нет смысла во вражде друг с другом.
Кажется, что и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, и «Утопия» Томаса Мора не рисуют образ идеального мироустройства. Более того, они намного больше похожи на антиутопии. Сравним их с одной из самых известных антиутопий — «Мы» Евгения Замятина.
По сюжету романа в мире отсутствует какая бы то ни было индивидуальность — каждому дается номер, по которому люди различаются между собой. Живут они в стеклянных домах, чтобы полиции было легче наблюдать за ними. Института брака не существует. Центральная догма государства заключается в том, что счастье и свобода не могут быть совместимы, поэтому сейчас людям даровано счастье, но отобрана свобода. Несмотря на все это, основа государства вполне демократическая, хоть и условно — ежегодно жители единогласно избирают Благодетеля.
На примере «Мы» Евгения Замятина выделяются основные принципы антиутопии: унификация и полное отсутствие индивидуальности, практически полное вмешательство власти в частную жизнь человека, отсутствие института семьи, всеобщей трудовой повинности и, как бы странно это ни звучало, видимого демократического основания. Погодите-ка, но это же все те черты, что были перечислены при анализе утопий.
Вот тут и появляется вопрос, как утопия превратилась в антиутопию. Во-первых, со сменой эпох поменялись и ценности человечества. Мор и Кампанелла писали во времена, когда человеческая жизнь и индивидуальность ценились намного меньше, чем сейчас, а основными проблемами были войны, классовое расслоение и самодержавие. Мода на антиутопии же началась в прошлом веке, когда жизнь, личность и свобода человека стали высшей ценностью. Поэтому идеальный мир Мора и Кампанеллы кажется нам ужасным, угнетающим и тираническим.
Во-вторых, все зависит от наблюдателя. Если Мор и Кампанелла действительно восхищались придуманными ими мирами, то в антиутопиях взгляд на режим обычно ведется от лица несогласных, бунтарей, выступающих против подконтрольной власти массе. В «1984» Джорджа Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Мы» Евгения Замятина и других антиутопиях главными героями выступают люди, которые проходят путь от конформизма (беспринципное следование взглядам, мнению и поведению господствующего большинства — прим. ред.) до яростной борьбы с действующим мироустройством.
Переход утопии к антиутопии объясняется изменением ценностных ориентиров в обществе. Так что неудивительно, что один жанр породил впоследствии другой. Утопия и антиутопия — две стороны одной медали, и все зависит от того, на какую из них посмотреть.