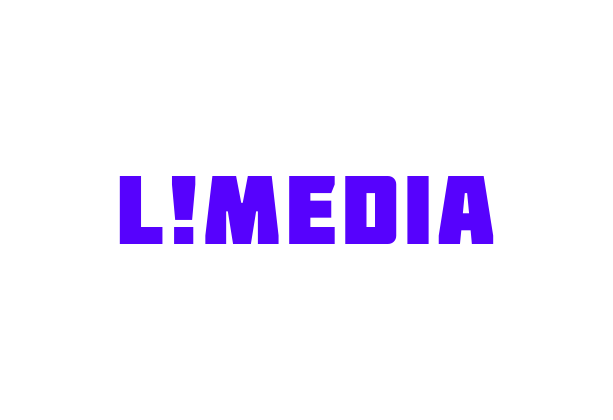11 мая/ 2021
«Первые минут 15 я чувствовала себя нормально, а потом упала в обморок»
Для победы над пандемией Covid - 19 больницы перестраиваются и постоянно нуждаются в сотрудниках. Именно поэтому студенты разных курсов медицинских университетов идут помогать и работать в «красной зоне». Мария, студентка и младшая медицинская сестра по уходу за больными из города Курск, поделилась с нами своим опытом работы в Тимской больнице во время пандемии коронавируса. Она рассказала о том, готова ли, будучи студентом, отвечать за жизни других, а также о моральном состоянии, смертях пациентов, страхе, чувстве жалости и взаимопомощи.
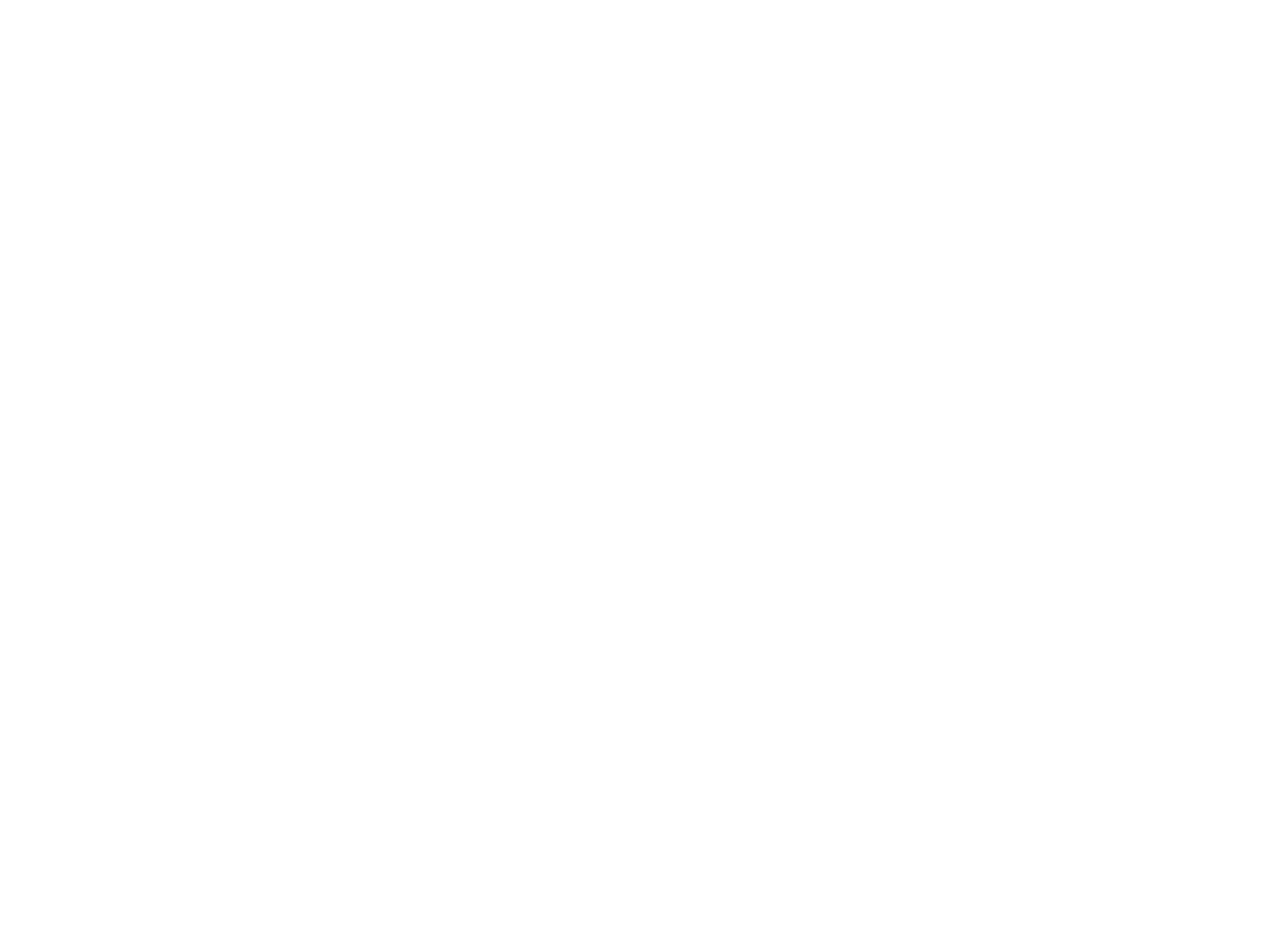
– Расскажи немного о себе. На каком курсе и факультете ты обучаешься, почему решила пойти в медицину?
– Учусь на 3 курсе лечебного факультета моего любимого Курского государственного медицинского университета. В семье медиков нет, поэтому это не наследственное рвение. Пошла в медицину из-за мечты стать хирургом, к которой пока успешно иду.
– Когда ты работала в ковидной больнице? И как пришла туда?
– Я состою в волонтерском отряде «Волонтеры-медики». В чат отряда была выложена информация о том, что в Тимскую ЦРБ набирают персонал. На тот момент я искала место в ковидной больнице, мне хотелось посмотреть на эту болезнь изнутри и помочь людям в столь тяжелых состояниях.
В общем, я сразу позвонила в отдел кадров больницы. Работала с конца января и весь февраль. Потом меня благополучно сократили, и я вышла на очную учебу.
– Учусь на 3 курсе лечебного факультета моего любимого Курского государственного медицинского университета. В семье медиков нет, поэтому это не наследственное рвение. Пошла в медицину из-за мечты стать хирургом, к которой пока успешно иду.
– Когда ты работала в ковидной больнице? И как пришла туда?
– Я состою в волонтерском отряде «Волонтеры-медики». В чат отряда была выложена информация о том, что в Тимскую ЦРБ набирают персонал. На тот момент я искала место в ковидной больнице, мне хотелось посмотреть на эту болезнь изнутри и помочь людям в столь тяжелых состояниях.
В общем, я сразу позвонила в отдел кадров больницы. Работала с конца января и весь февраль. Потом меня благополучно сократили, и я вышла на очную учебу.
– Какие условия труда тебе обещали? Совпали ли они с действительностью?
– Мы работали посуточно, потому что далеко было ездить из Курска в Тим, Тим находится в Курской области.
Работали сутки через трое, и находились 4 часа в «красной зоне», 4 часа в «чистой зоне». Все было так, как и сказали изначально. То есть в 8 утра мы заступали в смену, и в 8 утра следующего дня уходили отдыхать. Никто не заставлял работать больше.
– У вас работа в ковиде была на добровольной основе?
– Да, чисто на добровольной основе. Всем, кто на тот момент собирался работать, деканат одобрял. Сейчас, насколько я слышала, с этим уже тяжелее. Хотят выпустить большее количество студентов на очное обучение.
– У тебя уже был профессиональный опыт работы до работы в Тимской больнице?
– Нет, опыта не было. Была только практика по тому, как правильно ставить уколы, но на этой работе мне это почти не пригодилось, потому что я работала младшей медицинской сестрой по уходу за больными. Когда у медсестер был полный завал, мне удалось поставить пару уколов в помощь им.
– По твоему мнению, ты, будучи студентом, уже сейчас готова отвечать за жизни других?
– На данный момент я и не могу таким заниматься. Когда я работала в ковиде, то моя работа приносила скорее комфортное пребывание пациентам в больнице. Я не отвечала за их жизни.
Только после третьего курса мы можем сдать на сертификат медсестры/медбрата, и уже работать. Получается, что работать профессиональным медицинским работником, который мог бы отвечать за жизни людей, я смогу только после третьего курса. И я намерена этим заниматься.
– Твоя работа как-то повлияла на твою успеваемость в плане учебы?
– Нет, проблем она не вызывала. Университет был заинтересован в том, чтобы мы работали. Во время работы у нас было дистанционное обучение. На успеваемости это плохо не сказалось, даже наоборот, оценки стали лучше, потому что все задания можно было выполнять дома.
Некоторые мои одногруппники и сейчас работают, у них нет никаких проблем с учебой.
– Расскажи о своем первом дне работы: на что ты обратила внимание, какие эмоции испытала?
– Первый день у меня был довольно веселый.
В свои первые 4 часа я должна была находиться в «красной зоне», а я тогда еще вообще не знала, что это такое. Перед началом смены я даже не позавтракала, и это было моей ошибкой.
В 8 утра я надела свое обмундирование и зашла в «красную зону». Первые минут 15, пока мне показывали где и что находится, я чувствовала себя нормально, а потом упала в обморок.
Меня вывели в «чистую зону», переодели, накормили, и я зашла в «красную зону» уже со следующими медсестрами.
После моего обморока я подумала, что это вообще не мое, и я не смогу там работать. Но когда меня накормили и напоили чаем, все встало на свои места, и я захотела работать дальше. Кстати, питание было бесплатным и довольно-таки вкусным.
Когда я снова зашла в «красную зону», было страшновато, но в целом… я ожидала худшего. В нашей больнице не было реанимации, были только пациенты с кислородными трубками, а самых тяжелых пациентов отправляли в Курск.
Но лежачие пациенты у нас были, их нужно было кормить. В первый мой рабочий день таких было достаточно много. Сначала было морально тяжело смотреть на то, как им плохо. А потом прошло буквально 2 часа, и все стало нормально, чувство жалости прошло.
– А в чем конкретно заключались твои обязанности? Что ты делала?
– Сначала я устроилась санитаркой, потом через неделю меня повысили до должности младшей медицинской сестры по уходу за больными.
Утром мне нужно было помыть коридоры и палаты, потом разнести завтрак и накормить лежачих пациентов, после завтрака помыть посуду и поставить ее под кварц.
Днем была уборка лестниц, процедурок и туалетов. Потом обед, тоже самое, разносили и мыли все. Потом вечером снова уборка. Меняли постельное белье, выносили судна у тяжелых пациентов, обрабатывали пролежни.
Еще в мои обязанности входило встречать новых пациентов в приемном отделении, проводить их до палаты и объяснять что, где находится.
А когда пациенты поступали по скорой, то собирался практически весь персонал. Так как лифта в этой больнице нет, мы все вместе на носилках переносили пациентов на второй или третий этаж. Мальчиков у нас было мало, поэтому было очень тяжело.
– Разрешалось ли вам иметь при себе телефоны и что-то снимать в «красной зоне»?
– Телефоны брать можно было, но только в водонепроницаемом чехле, который проходил обработку в шлюзе. После смены его нужно было оставлять в шлюзе, потом забирать. Телефон без чехла нельзя было, потому что ничего из «красной зоны» выносить нельзя. В шлюзе и одежда вся остается. И еда, кстати, тоже передавалась нам через него из «чистой зоны» в «красную».
И там же, в санпропускнике, нужно было после каждого захода в «красную зону» мыться.
А снимать и фотографировать нельзя было.
– Ты работала одна или с тобой вместе были однокурсники?
– У нас почти все молодые ребята были из нашего университета. Конкретно в нашем отделение персонала было еще мало, потому что мы пришли туда сразу, как только его построили. Персонал набирали по сути только из студентов, и практически все студенты были из нашего меда.
Я туда пошла работать без знакомых, потому что моя подруга уже работала в другой ковидной больнице.
– Доводилось ли тебе пережить какие-то критические случаи? Например, смерть пациента.
– На период моей работы в больнице никто не умирал, потому что всех очень тяжелых перевозили в Курск. Но было морально тяжело несколько раз, когда приходишь на работе, и тебе говорят: «А вот в Курске такой-то умер». То есть каждый день я контактировала с этим пациентом, кормила его, думала, что ему станет легче, и тут он умирает.
Еще была женщина, у которой была гипергликемическая кома, сахар в крови был 27-28, это очень много. И как раз в ночь, когда я дежурила, приглашали врача реаниматолога, он пытался ее откачать. Я в это время находилась рядом, чтобы что-то поднести, убрать, как-то ее переложить. Это тоже было довольно тяжело.
– Фактор возраста больного играл какую-то роль? Грубо говоря, выбирали ли, кого нужно спасти первым?
– Нет. Возраст не играл вообще никакой роли. То есть, если врач пришел на обход, то он не выбирает кого-то первым, он идет по списку своих палат. Если есть несколько тяжелых пациентов, то экстренно вызовут еще несколько врачей и будут всех в одно время готовить к перевозке в Курск. У нас никогда не было такого, чтобы это было по очереди. Если занимались тяжелыми, то неважно какой возраст, всеми в одно время.
– Посмотрев изнутри на работу российских больниц в чрезвычайном режиме, какие плюсы и минусы ты можешь выделить?
– Если говорить именно на основании моей Тимской больницы, то из плюсов могу назвать: взаимодействие персонала друг с другом и высокий профессионализм врачей, которые довольно быстро реагировали на стрессовые ситуации.
Взаимопомощь в нашей больнице была действительно на очень высоком уровне. Каждая из сторон была готова помочь, даже если это не входило в обязанности. Например, мы помогали медсестрам ставить капельницы, если они были заняты, а медсестры помогали нам кормить пациентов.
А как минусы… огромный минус - в трехэтажной больнице для тяжелых пациентов нет лифта, и пациента в 160 кг хрупкие девушки поднимают на третий этаж вручную.
Еще один минус - это отсутствие реанимации. Если тяжелый пациент в коме, нужно везти его до Курска, это минимум два часа, можно не довезти. Честно говоря, в больнице на самом деле есть палата реанимации и там даже есть оборудование, но оно не подключено, не знаю по какой причине.
– Были ли у тебя мысли во время или после работы, что ты больше не хочешь быть медицинским работником по какой-то причине?
– Нет, такими мыслями и не пахло. Наоборот, хотелось скорее уже получить сестринский сертификат и идти работать на постоянку в обычную больницу.
– Хотела бы ты, чтобы через подобную практику проходили все студенты-медики?
– На самом деле, смотря на некоторых своих одногруппников, которые боятся банально сделать внутримышечную инъекцию... я бы за них просто боялась. Они бы могли просто сойти с ума, сломаться. Некоторые из них боятся даже вида крови.
Не все люди, которые учатся в меде, пошли туда по своей воле, или не все понимали, что это такое, когда поступали. Поэтому нет, скорее я за то, чтобы все это было добровольно.
– Как ты можешь в целом оценить свой опыт?
– Я считаю, что мне это было очень полезно. Особенно с моральной точки зрения. Поработав там и посмотрев, как работают врачи, сколько им нужно иметь информации в голове, чтобы ставить правильные назначения и диагнозы, появляется больше мотивации продолжать учиться, быть врачом и идти к своей мечте. Даже если и были какие-то моменты с грязной работой с тяжелыми пациентами, никакого отвращения у меня это не вызывало, потому что это естественно. Любой человек, я или мои родственники, может оказаться на месте того тяжелого пациента, и я должна уметь оказать ему надлежащую помощь, неважно, в стационаре или дома. Так что даже санитарский опыт тоже нужен.
Имея опыт работы в ковиде, я теперь точно буду готова к работе в менее тяжелых условиях.
– Мы работали посуточно, потому что далеко было ездить из Курска в Тим, Тим находится в Курской области.
Работали сутки через трое, и находились 4 часа в «красной зоне», 4 часа в «чистой зоне». Все было так, как и сказали изначально. То есть в 8 утра мы заступали в смену, и в 8 утра следующего дня уходили отдыхать. Никто не заставлял работать больше.
– У вас работа в ковиде была на добровольной основе?
– Да, чисто на добровольной основе. Всем, кто на тот момент собирался работать, деканат одобрял. Сейчас, насколько я слышала, с этим уже тяжелее. Хотят выпустить большее количество студентов на очное обучение.
– У тебя уже был профессиональный опыт работы до работы в Тимской больнице?
– Нет, опыта не было. Была только практика по тому, как правильно ставить уколы, но на этой работе мне это почти не пригодилось, потому что я работала младшей медицинской сестрой по уходу за больными. Когда у медсестер был полный завал, мне удалось поставить пару уколов в помощь им.
– По твоему мнению, ты, будучи студентом, уже сейчас готова отвечать за жизни других?
– На данный момент я и не могу таким заниматься. Когда я работала в ковиде, то моя работа приносила скорее комфортное пребывание пациентам в больнице. Я не отвечала за их жизни.
Только после третьего курса мы можем сдать на сертификат медсестры/медбрата, и уже работать. Получается, что работать профессиональным медицинским работником, который мог бы отвечать за жизни людей, я смогу только после третьего курса. И я намерена этим заниматься.
– Твоя работа как-то повлияла на твою успеваемость в плане учебы?
– Нет, проблем она не вызывала. Университет был заинтересован в том, чтобы мы работали. Во время работы у нас было дистанционное обучение. На успеваемости это плохо не сказалось, даже наоборот, оценки стали лучше, потому что все задания можно было выполнять дома.
Некоторые мои одногруппники и сейчас работают, у них нет никаких проблем с учебой.
– Расскажи о своем первом дне работы: на что ты обратила внимание, какие эмоции испытала?
– Первый день у меня был довольно веселый.
В свои первые 4 часа я должна была находиться в «красной зоне», а я тогда еще вообще не знала, что это такое. Перед началом смены я даже не позавтракала, и это было моей ошибкой.
В 8 утра я надела свое обмундирование и зашла в «красную зону». Первые минут 15, пока мне показывали где и что находится, я чувствовала себя нормально, а потом упала в обморок.
Меня вывели в «чистую зону», переодели, накормили, и я зашла в «красную зону» уже со следующими медсестрами.
После моего обморока я подумала, что это вообще не мое, и я не смогу там работать. Но когда меня накормили и напоили чаем, все встало на свои места, и я захотела работать дальше. Кстати, питание было бесплатным и довольно-таки вкусным.
Когда я снова зашла в «красную зону», было страшновато, но в целом… я ожидала худшего. В нашей больнице не было реанимации, были только пациенты с кислородными трубками, а самых тяжелых пациентов отправляли в Курск.
Но лежачие пациенты у нас были, их нужно было кормить. В первый мой рабочий день таких было достаточно много. Сначала было морально тяжело смотреть на то, как им плохо. А потом прошло буквально 2 часа, и все стало нормально, чувство жалости прошло.
– А в чем конкретно заключались твои обязанности? Что ты делала?
– Сначала я устроилась санитаркой, потом через неделю меня повысили до должности младшей медицинской сестры по уходу за больными.
Утром мне нужно было помыть коридоры и палаты, потом разнести завтрак и накормить лежачих пациентов, после завтрака помыть посуду и поставить ее под кварц.
Днем была уборка лестниц, процедурок и туалетов. Потом обед, тоже самое, разносили и мыли все. Потом вечером снова уборка. Меняли постельное белье, выносили судна у тяжелых пациентов, обрабатывали пролежни.
Еще в мои обязанности входило встречать новых пациентов в приемном отделении, проводить их до палаты и объяснять что, где находится.
А когда пациенты поступали по скорой, то собирался практически весь персонал. Так как лифта в этой больнице нет, мы все вместе на носилках переносили пациентов на второй или третий этаж. Мальчиков у нас было мало, поэтому было очень тяжело.
– Разрешалось ли вам иметь при себе телефоны и что-то снимать в «красной зоне»?
– Телефоны брать можно было, но только в водонепроницаемом чехле, который проходил обработку в шлюзе. После смены его нужно было оставлять в шлюзе, потом забирать. Телефон без чехла нельзя было, потому что ничего из «красной зоны» выносить нельзя. В шлюзе и одежда вся остается. И еда, кстати, тоже передавалась нам через него из «чистой зоны» в «красную».
И там же, в санпропускнике, нужно было после каждого захода в «красную зону» мыться.
А снимать и фотографировать нельзя было.
– Ты работала одна или с тобой вместе были однокурсники?
– У нас почти все молодые ребята были из нашего университета. Конкретно в нашем отделение персонала было еще мало, потому что мы пришли туда сразу, как только его построили. Персонал набирали по сути только из студентов, и практически все студенты были из нашего меда.
Я туда пошла работать без знакомых, потому что моя подруга уже работала в другой ковидной больнице.
– Доводилось ли тебе пережить какие-то критические случаи? Например, смерть пациента.
– На период моей работы в больнице никто не умирал, потому что всех очень тяжелых перевозили в Курск. Но было морально тяжело несколько раз, когда приходишь на работе, и тебе говорят: «А вот в Курске такой-то умер». То есть каждый день я контактировала с этим пациентом, кормила его, думала, что ему станет легче, и тут он умирает.
Еще была женщина, у которой была гипергликемическая кома, сахар в крови был 27-28, это очень много. И как раз в ночь, когда я дежурила, приглашали врача реаниматолога, он пытался ее откачать. Я в это время находилась рядом, чтобы что-то поднести, убрать, как-то ее переложить. Это тоже было довольно тяжело.
– Фактор возраста больного играл какую-то роль? Грубо говоря, выбирали ли, кого нужно спасти первым?
– Нет. Возраст не играл вообще никакой роли. То есть, если врач пришел на обход, то он не выбирает кого-то первым, он идет по списку своих палат. Если есть несколько тяжелых пациентов, то экстренно вызовут еще несколько врачей и будут всех в одно время готовить к перевозке в Курск. У нас никогда не было такого, чтобы это было по очереди. Если занимались тяжелыми, то неважно какой возраст, всеми в одно время.
– Посмотрев изнутри на работу российских больниц в чрезвычайном режиме, какие плюсы и минусы ты можешь выделить?
– Если говорить именно на основании моей Тимской больницы, то из плюсов могу назвать: взаимодействие персонала друг с другом и высокий профессионализм врачей, которые довольно быстро реагировали на стрессовые ситуации.
Взаимопомощь в нашей больнице была действительно на очень высоком уровне. Каждая из сторон была готова помочь, даже если это не входило в обязанности. Например, мы помогали медсестрам ставить капельницы, если они были заняты, а медсестры помогали нам кормить пациентов.
А как минусы… огромный минус - в трехэтажной больнице для тяжелых пациентов нет лифта, и пациента в 160 кг хрупкие девушки поднимают на третий этаж вручную.
Еще один минус - это отсутствие реанимации. Если тяжелый пациент в коме, нужно везти его до Курска, это минимум два часа, можно не довезти. Честно говоря, в больнице на самом деле есть палата реанимации и там даже есть оборудование, но оно не подключено, не знаю по какой причине.
– Были ли у тебя мысли во время или после работы, что ты больше не хочешь быть медицинским работником по какой-то причине?
– Нет, такими мыслями и не пахло. Наоборот, хотелось скорее уже получить сестринский сертификат и идти работать на постоянку в обычную больницу.
– Хотела бы ты, чтобы через подобную практику проходили все студенты-медики?
– На самом деле, смотря на некоторых своих одногруппников, которые боятся банально сделать внутримышечную инъекцию... я бы за них просто боялась. Они бы могли просто сойти с ума, сломаться. Некоторые из них боятся даже вида крови.
Не все люди, которые учатся в меде, пошли туда по своей воле, или не все понимали, что это такое, когда поступали. Поэтому нет, скорее я за то, чтобы все это было добровольно.
– Как ты можешь в целом оценить свой опыт?
– Я считаю, что мне это было очень полезно. Особенно с моральной точки зрения. Поработав там и посмотрев, как работают врачи, сколько им нужно иметь информации в голове, чтобы ставить правильные назначения и диагнозы, появляется больше мотивации продолжать учиться, быть врачом и идти к своей мечте. Даже если и были какие-то моменты с грязной работой с тяжелыми пациентами, никакого отвращения у меня это не вызывало, потому что это естественно. Любой человек, я или мои родственники, может оказаться на месте того тяжелого пациента, и я должна уметь оказать ему надлежащую помощь, неважно, в стационаре или дома. Так что даже санитарский опыт тоже нужен.
Имея опыт работы в ковиде, я теперь точно буду готова к работе в менее тяжелых условиях.
Что почитать еще?