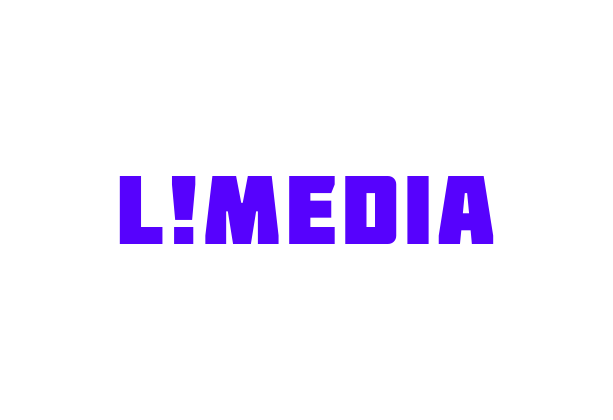19 декабря/ 2020
Эволюция манифеста: от коллективного к личному
Что такое манифест? Ангажированное политическое высказывание или способ заявить о себе в интернете? Мы все когда-нибудь читали, хотя бы отрывками, манифест коммунистической партии и видели знаменитый фонтан Дюшана. И пытались создать то же самое или оставить своё «мнение-манифест» в блоге или комментариях.
Как манифест стал формой выражения личного мнения? На эти и другие вопросы ответила Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС, доцент факультета УСКП МВШСЭН, Director of Studies научного бюро цифровых гуманитарных исследований «CultLook» корреспондентке Libera-media.
Как манифест стал формой выражения личного мнения? На эти и другие вопросы ответила Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС, доцент факультета УСКП МВШСЭН, Director of Studies научного бюро цифровых гуманитарных исследований «CultLook» корреспондентке Libera-media.
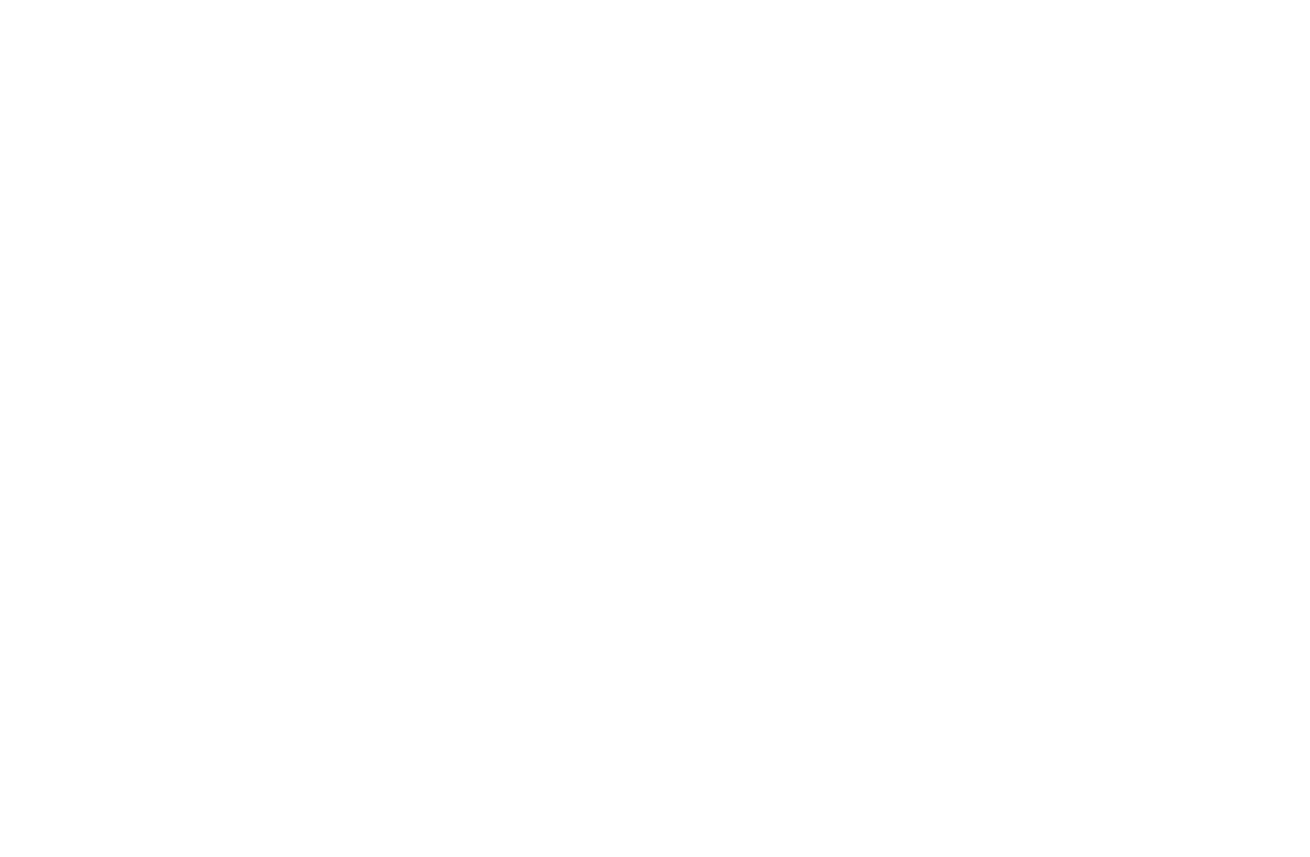
— Что такое манифест в самом общем смысле и как его отличить от обычного «длиннопоста»?
— Всё зависит от того, из какого интеллектуального пространства мы будем отсчитывать историю манифеста. Если взять область искусства, то там манифест означает изложение неких художественных принципов или целого направления, существующего в литературе или перформативном искусстве. Либо какой-то персональный набор высказываний, который позволяет определить положение конкретного автора в художественном пространстве. Конечно, такое понимание манифеста резко отличается от понимания его в политическом пространстве, институциональном, когда речь идет о том, что это специальное обращение от представителей власти, например, 1905 года. Там, по сути, манифесты – это декларация о намерениях, торжественные акты. Если мы говорим о существовании манифестов в наше время, в достаточно свободном пространстве, где каждый может взять и запросто их написать в социальных сетях, то это ближе к тому, чем является манифест в искусстве. И те манифесты, которые выкладываются в инстаграме это не только воззвания, утверждения, это еще и дополнительная визуализация того смысла, который хочет донести автор.
— Всё зависит от того, из какого интеллектуального пространства мы будем отсчитывать историю манифеста. Если взять область искусства, то там манифест означает изложение неких художественных принципов или целого направления, существующего в литературе или перформативном искусстве. Либо какой-то персональный набор высказываний, который позволяет определить положение конкретного автора в художественном пространстве. Конечно, такое понимание манифеста резко отличается от понимания его в политическом пространстве, институциональном, когда речь идет о том, что это специальное обращение от представителей власти, например, 1905 года. Там, по сути, манифесты – это декларация о намерениях, торжественные акты. Если мы говорим о существовании манифестов в наше время, в достаточно свободном пространстве, где каждый может взять и запросто их написать в социальных сетях, то это ближе к тому, чем является манифест в искусстве. И те манифесты, которые выкладываются в инстаграме это не только воззвания, утверждения, это еще и дополнительная визуализация того смысла, который хочет донести автор.
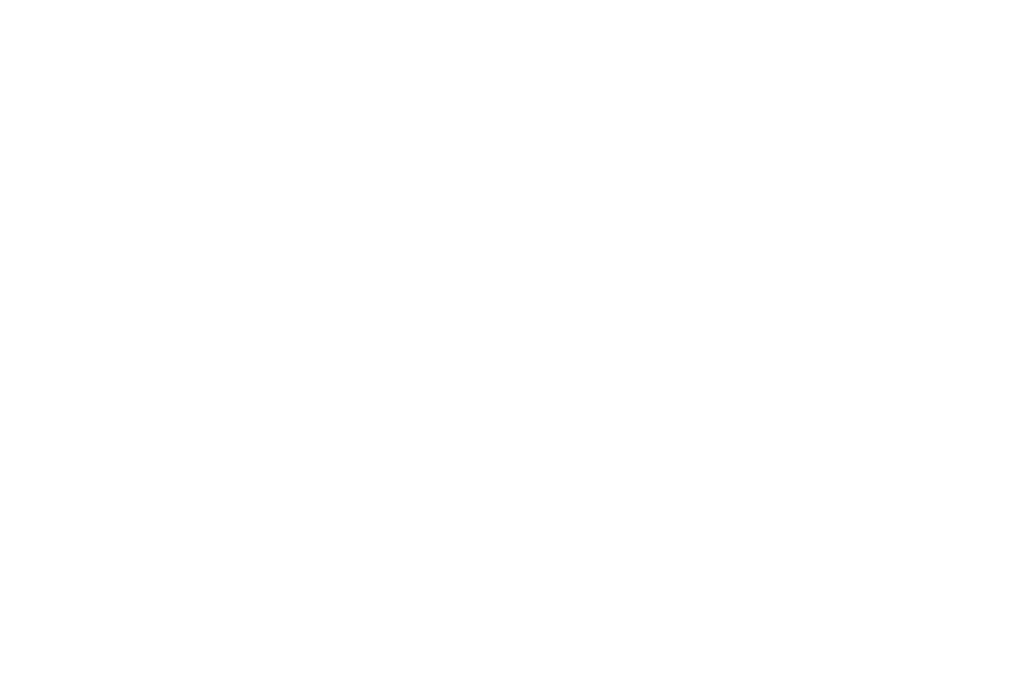
— Как эволюционировал манифест: как случился первый поворот – от инструмента политиков к инструменту художников?
— Это очень специальный вопрос, требующий историко-культурного исследования, и как культуролог отвечу следующее: в первой трети 20 века размежевания между политическим и художественным было не так заметно. Так было, в том числе и потому, что многие художественные группы в силу развития идеологии тоталитарного режима, оказались близки к политическим высказываниям. Это хорошо видно на примере итальянских футуристов, опубликовавших свой манифест в 1909 году. Томмазо Маринетти вообще-то был одним из основателей итальянского фашизма, работал с Муссолини и умер под Сталинградом. А русские футуристы опубликовали манифест в 1912 году. И уже в период с 1909 по 1912 манифест становится полем, где эстетические вкусы балансируют на грани политического акта, сливаются в мировоззренческие акты. То есть художникам важно было не разделять общественное и эстетическое, они чувствовали себя частью политического процесса строительства будущего. Важно отметить, что в 60-е годы возникает история про то, что искусство это вообще способ критики порядка вещей. И настоящий художник не тот, кто изображает повседневность или реальность, а тот, кто её критикует. Именно поэтому передовые художники стали манифестировать свою рефлексию и это вылилось в политическую сатиру, политический манифест. Мы можем наблюдать это даже у Бэнкси.
— Есть точка зрения, что к манифесту прибегают, когда один автор уже не способен создавать что-то необычное, ценное сам. Можно ли в этом случае считать, что многие авторы (и не только) испытывают сейчас творческий кризис или кризис производства ценных высказываний?
— Это не всегда кризис, но манифест – это квинтэссенция некоторой позиции, неважно какого времени или авторства. Он позволяет хорошо собрать воедино ключевые "поинты". Благодаря этому манифест становится видимой, очень заметной формой высказывания. Если у художника есть необходимость произвести вау-эффект или высказать всё то, что давно замалчивалось, то в таком случае, конечно, к манифесту можно прибегать. Но тут следует отметить, что манифест очень манипулятивная форма высказывания, он часто эмоционально заряжен или в нём есть жесткие высказывания, которые помогают избегать неправильного прочтения. И складывается такая ситуация, что манифест – суггестивное высказывание, то есть которое должно привести к определенным действиям, изменению картины мира читателя. Поэтому манифесты сейчас пишут художники или группы художников, которые претендуют на то, чтобы быть увиденными. Или это могут делать представители достаточно радикального политического искусства, которые не обязательно пишут тексты, но создают акции, хэппенинги, перформансы и ставят очень неприятные вопросы. Отмечу, что для таких людей манифест как инструмент является частью их идентичности и поэтому у нас не возникает вопросов. А вот, например, если его вдруг захочет создать Никас Сафронов, сразу возникнет вопрос «ну а зачем?».
— Манифест, наверное, это прежде всего про коллективное действие, не личное. Недавно в Neon University на онлайн-лекции вы попытались разобраться с тезисом «в интернете нет ничего личного». Но, почему же тогда люди создают «свои» странички, свою интернет-идентичность и не идентифицируют себя или свои паблики и т.д. как манифесты?
— Это очень хороший вопрос. На самом деле фраза "в интернете нет ничего личного" очень хорошо контрастирует с тем, как люди себя чувствуют онлайн. То есть, уже не одно десятилетие нам говорят: «всё, что выкладывается в онлайн, становится частью огромного цифрового следа или архива, это всё можно вскрыть, обнаружить, в том числе ваше «грязное-чистое» бельё». Конечно, мы понимаем, что существует множество кейсов утечки, и что многое не защищено, но: это совершенно не стыкуется с опытом людей. Мы всё равно продолжаем создавать личные страницы, выгружаем туда фотографии, пишем какие-то посты, иногда довольно интимного содержания. По факту, даже те, кто прекрасно понимает, что его данные не защищены, всё равно продолжает это делать. Это такой парадокс.
— И при этом словосочетание «мой манифест» в сети появляется всё больше, особенно в инстаграме. Как произошло, что манифест стал личным?
— Как раз из-за того, что люди переносят часть статусов из офлайн жизни в онлайн, считают, что их мнения имеют смысл и все они – уникальные личности. Например, если в оффлайн я – эксперт, то и в онлайне тоже, или если я таковым не являюсь, всё равно буду выстраивать какой-то статус в интернете, на который хочу претендовать. Чтобы подтвердить свою уникальность, мы используем сети, в том числе как способ самопрезентации. И личный манифест здесь очень уместен, но порождает некоторые проблемы: во-первых, у него есть определенный сценарий повествования, во-вторых, если мы не уникальны, то похожи и в-третьих, мы делаем всё это для того, чтобы показать себя или получить социальное одобрение от других людей. А одобрение зависит даже не от количества людей, читающих ваш блог, а насколько в социальной сети формируется более-менее доброжелательная атмосфера. Поэтому нам очень часто больно, когда выложив какой-то откровенный пост, то есть тем самым обнажая себя, мы не получаем фидбека.
— Теперь манифест доступен для каждого или это всё ещё прерогатива дизайнеров, феминисток, художников, активистов?
— Технически написать манифест может кто угодно. Другой вопрос, есть ли у нас мотивация к этому. Люди наиболее активистки «устроенные» больше знакомы с этим форматом и будут его использовать, потому что у их есть задача произвести высказывание. Которое повлияет на кого-то или высветит какие-то проблемы. А у человека, который менее активистки настроен и не является «борцом за справедливость» в публичном пространстве, мотивации быть не может или она будет в значительно меньшей степени. Но есть третий, очень важный компонент: мы с трудом можем отделить активистов от не-активистов. Конечно, есть какие-то радикальные формы, например, группа людей, которые вообще ничем-ничем не интересуются, а в противоположность им – группа, которая готова стоять на баррикадах, условно, ездит с красным крестом в Африку. Но по мере того, как развивается представление о социальной ответственности, большое количество людей, которые не называют себя активистами, начинают помогать. И все эти люди в состоянии написать манифест, если поймут, что такая необходимость есть. Их манифесты могут принимать самые разные формы. Я знаю нескольких людей которые на свой день рождения в соцсетях пишут дежурные посты с просьбой «пожалуйста, не делайте мне никаких подарков, а перечислите, пожалуйста, денюжку туда-то и туда-то». Это тоже манифест, только не в классической его форме.
— Вы когда-нибудь хотели написать собственный манифест? Или поучаствовать в создании как соавтор?
— Да, безусловно и даже не один. Могу примерно сказать про что бы они были: это скорее как поток мыслей, приходивших в разное время в мою голову. И один из них точно был бы связан с непрофессиональной деформацией, поскольку я культуролог и имею теоретическое образование. Я искренне полагаю, что если б многим людям удалось посмотреть на мир глазами культуролога, то стало бы лучше и мир стал бы более спокойным, вдумчивым... Я всегда мечтала об этом рассказать, а потом решила с моей коллегой, что манифест всё-таки это очень сильно и можно создать большое высказывание. Этим высказыванием стал блог злобного культуролога, который как раз создан был для того, чтобы рассказывать что такое культурология и как с её помощью можно развивать себя, окружающий мир. Вторая история связана с защитой прав животных. Мне кажется, что в России степень ответственности за животных и относительно их прав все еще невелика. Я очень хотела бы такие вещи проговаривать и акцентировать на них внимание, чтобы ситуация изменилась.
Upd: в мае 2020 Оксана Мороз задумывала манифест. И благодаря Екатерине Сувериной и иллюстрациям Алисы Йоффе он превратился в текст для Garage Museum of Contemporary Art.
— Это очень специальный вопрос, требующий историко-культурного исследования, и как культуролог отвечу следующее: в первой трети 20 века размежевания между политическим и художественным было не так заметно. Так было, в том числе и потому, что многие художественные группы в силу развития идеологии тоталитарного режима, оказались близки к политическим высказываниям. Это хорошо видно на примере итальянских футуристов, опубликовавших свой манифест в 1909 году. Томмазо Маринетти вообще-то был одним из основателей итальянского фашизма, работал с Муссолини и умер под Сталинградом. А русские футуристы опубликовали манифест в 1912 году. И уже в период с 1909 по 1912 манифест становится полем, где эстетические вкусы балансируют на грани политического акта, сливаются в мировоззренческие акты. То есть художникам важно было не разделять общественное и эстетическое, они чувствовали себя частью политического процесса строительства будущего. Важно отметить, что в 60-е годы возникает история про то, что искусство это вообще способ критики порядка вещей. И настоящий художник не тот, кто изображает повседневность или реальность, а тот, кто её критикует. Именно поэтому передовые художники стали манифестировать свою рефлексию и это вылилось в политическую сатиру, политический манифест. Мы можем наблюдать это даже у Бэнкси.
— Есть точка зрения, что к манифесту прибегают, когда один автор уже не способен создавать что-то необычное, ценное сам. Можно ли в этом случае считать, что многие авторы (и не только) испытывают сейчас творческий кризис или кризис производства ценных высказываний?
— Это не всегда кризис, но манифест – это квинтэссенция некоторой позиции, неважно какого времени или авторства. Он позволяет хорошо собрать воедино ключевые "поинты". Благодаря этому манифест становится видимой, очень заметной формой высказывания. Если у художника есть необходимость произвести вау-эффект или высказать всё то, что давно замалчивалось, то в таком случае, конечно, к манифесту можно прибегать. Но тут следует отметить, что манифест очень манипулятивная форма высказывания, он часто эмоционально заряжен или в нём есть жесткие высказывания, которые помогают избегать неправильного прочтения. И складывается такая ситуация, что манифест – суггестивное высказывание, то есть которое должно привести к определенным действиям, изменению картины мира читателя. Поэтому манифесты сейчас пишут художники или группы художников, которые претендуют на то, чтобы быть увиденными. Или это могут делать представители достаточно радикального политического искусства, которые не обязательно пишут тексты, но создают акции, хэппенинги, перформансы и ставят очень неприятные вопросы. Отмечу, что для таких людей манифест как инструмент является частью их идентичности и поэтому у нас не возникает вопросов. А вот, например, если его вдруг захочет создать Никас Сафронов, сразу возникнет вопрос «ну а зачем?».
— Манифест, наверное, это прежде всего про коллективное действие, не личное. Недавно в Neon University на онлайн-лекции вы попытались разобраться с тезисом «в интернете нет ничего личного». Но, почему же тогда люди создают «свои» странички, свою интернет-идентичность и не идентифицируют себя или свои паблики и т.д. как манифесты?
— Это очень хороший вопрос. На самом деле фраза "в интернете нет ничего личного" очень хорошо контрастирует с тем, как люди себя чувствуют онлайн. То есть, уже не одно десятилетие нам говорят: «всё, что выкладывается в онлайн, становится частью огромного цифрового следа или архива, это всё можно вскрыть, обнаружить, в том числе ваше «грязное-чистое» бельё». Конечно, мы понимаем, что существует множество кейсов утечки, и что многое не защищено, но: это совершенно не стыкуется с опытом людей. Мы всё равно продолжаем создавать личные страницы, выгружаем туда фотографии, пишем какие-то посты, иногда довольно интимного содержания. По факту, даже те, кто прекрасно понимает, что его данные не защищены, всё равно продолжает это делать. Это такой парадокс.
— И при этом словосочетание «мой манифест» в сети появляется всё больше, особенно в инстаграме. Как произошло, что манифест стал личным?
— Как раз из-за того, что люди переносят часть статусов из офлайн жизни в онлайн, считают, что их мнения имеют смысл и все они – уникальные личности. Например, если в оффлайн я – эксперт, то и в онлайне тоже, или если я таковым не являюсь, всё равно буду выстраивать какой-то статус в интернете, на который хочу претендовать. Чтобы подтвердить свою уникальность, мы используем сети, в том числе как способ самопрезентации. И личный манифест здесь очень уместен, но порождает некоторые проблемы: во-первых, у него есть определенный сценарий повествования, во-вторых, если мы не уникальны, то похожи и в-третьих, мы делаем всё это для того, чтобы показать себя или получить социальное одобрение от других людей. А одобрение зависит даже не от количества людей, читающих ваш блог, а насколько в социальной сети формируется более-менее доброжелательная атмосфера. Поэтому нам очень часто больно, когда выложив какой-то откровенный пост, то есть тем самым обнажая себя, мы не получаем фидбека.
— Теперь манифест доступен для каждого или это всё ещё прерогатива дизайнеров, феминисток, художников, активистов?
— Технически написать манифест может кто угодно. Другой вопрос, есть ли у нас мотивация к этому. Люди наиболее активистки «устроенные» больше знакомы с этим форматом и будут его использовать, потому что у их есть задача произвести высказывание. Которое повлияет на кого-то или высветит какие-то проблемы. А у человека, который менее активистки настроен и не является «борцом за справедливость» в публичном пространстве, мотивации быть не может или она будет в значительно меньшей степени. Но есть третий, очень важный компонент: мы с трудом можем отделить активистов от не-активистов. Конечно, есть какие-то радикальные формы, например, группа людей, которые вообще ничем-ничем не интересуются, а в противоположность им – группа, которая готова стоять на баррикадах, условно, ездит с красным крестом в Африку. Но по мере того, как развивается представление о социальной ответственности, большое количество людей, которые не называют себя активистами, начинают помогать. И все эти люди в состоянии написать манифест, если поймут, что такая необходимость есть. Их манифесты могут принимать самые разные формы. Я знаю нескольких людей которые на свой день рождения в соцсетях пишут дежурные посты с просьбой «пожалуйста, не делайте мне никаких подарков, а перечислите, пожалуйста, денюжку туда-то и туда-то». Это тоже манифест, только не в классической его форме.
— Вы когда-нибудь хотели написать собственный манифест? Или поучаствовать в создании как соавтор?
— Да, безусловно и даже не один. Могу примерно сказать про что бы они были: это скорее как поток мыслей, приходивших в разное время в мою голову. И один из них точно был бы связан с непрофессиональной деформацией, поскольку я культуролог и имею теоретическое образование. Я искренне полагаю, что если б многим людям удалось посмотреть на мир глазами культуролога, то стало бы лучше и мир стал бы более спокойным, вдумчивым... Я всегда мечтала об этом рассказать, а потом решила с моей коллегой, что манифест всё-таки это очень сильно и можно создать большое высказывание. Этим высказыванием стал блог злобного культуролога, который как раз создан был для того, чтобы рассказывать что такое культурология и как с её помощью можно развивать себя, окружающий мир. Вторая история связана с защитой прав животных. Мне кажется, что в России степень ответственности за животных и относительно их прав все еще невелика. Я очень хотела бы такие вещи проговаривать и акцентировать на них внимание, чтобы ситуация изменилась.
Upd: в мае 2020 Оксана Мороз задумывала манифест. И благодаря Екатерине Сувериной и иллюстрациям Алисы Йоффе он превратился в текст для Garage Museum of Contemporary Art.
Что почитать еще?