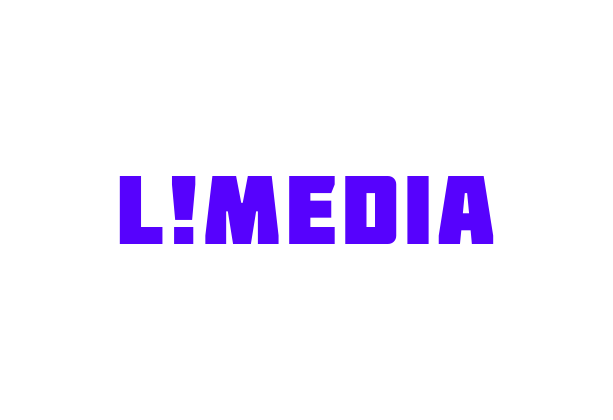17 февраля/ 2021
Полицейское насилие – как, откуда, и что с этим делать?
Некоторые события ярко обнажают проблемы в системе контроля над насилием в России. Полицейские дубинки, обрушивающиеся на головы мирных граждан кажутся чем-то из ряда вон. Зафиксированы случаи нанесения серьезных травм протестующим, самым резонансным эпизодом стал удар в живот 54-летней Маргариты Юдиной сотрудником ОМОНа после которого она попала в реанимацию. Свой поступок боец позже объяснит запотевшим забралом и усталостью, а также принесёт личные извинения в палате пострадавшей.
Однако проблема насилия в среде силовиков коренится значительно глубже. Кто виноват и что с этим делать? Именно об этом рассуждает корреспондент Libera! в своей статье.
Однако проблема насилия в среде силовиков коренится значительно глубже. Кто виноват и что с этим делать? Именно об этом рассуждает корреспондент Libera! в своей статье.
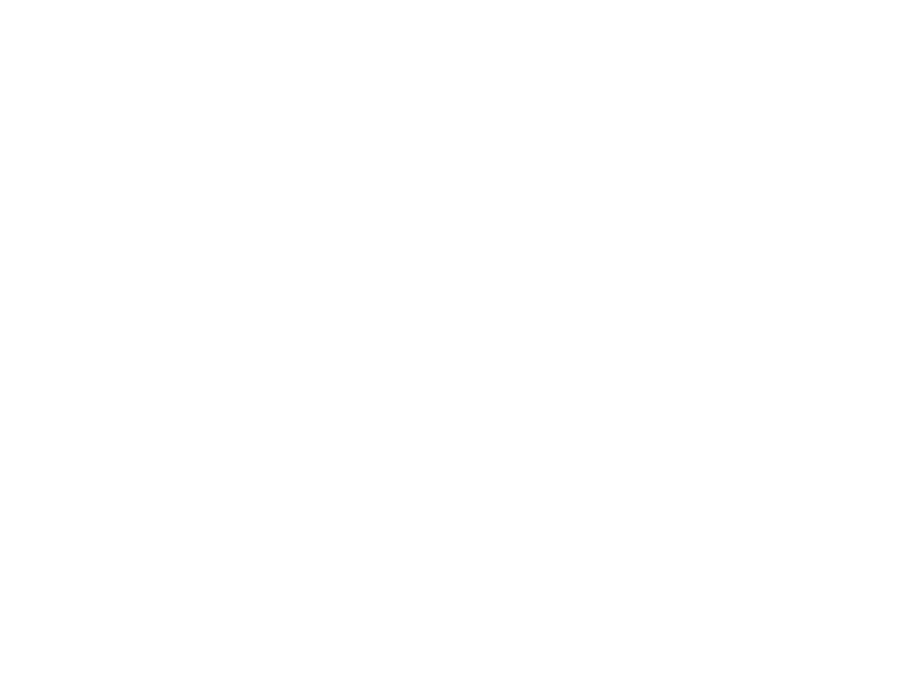
Как устроен контроль над насилием в России?
На сегодняшний день аппарат насилия в России многообразен и сложен. Основными его агентами выступают силовые структуры, подчиненные федеральному центру и черпающие средства исключительно из федерального бюджета. Уровень насилия в стране в целом ниже, чем десять лет назад, и тем более ниже, чем в девяностые годы, когда на 100 000 человек приходилось 10 и более убийств. Однако, согласно последним данным уровень безопасности в стране остается на сравнительно низком уровне, сопоставимым со странами третьего мира. Причиной тому служит масса факторов: от произвола, коррумпированности силовиков и закономерно низкого уровня доверия граждан к правоохранительным органам, вынуждающим зачастую прибегать к неправовым способам решения конфликтов. Все это характеризует Россию, как страну системы ограниченного доступа.
Что значит «система ограниченного доступа»?
Система ограниченного доступа описана в работе американского экономиста Дугласа Норта «Насилие и социальные порядки». Такая система характеризуется способом контроля над насилием в обществе, основанном прежде всего на личных взаимосвязях, гиперцентрализации власти и отсутствии верховенства права. Модель ограниченного доступа представляется Нортом естественным установленным в государствах порядком, то есть большинство стран в мире относятся к этому типу.
Власть в государствах ограниченного доступа распределяется согласно установленным в правящей коалиции правилам, а насилие распределяется лишь в отношении не относящихся к элитам массам, дабы не вредить друг другу процессу извлечения эксклюзивной административной ренты.
Самой значимой частью именно такой закрытой правящей коалиции выступают в России силовики.
Кто такие силовики?
Западная политическая наука описывает силовиков (даже не переводя само слово «силовики»), как особый класс российских госслужащих , имеющих потенциал применения насилия в политических целях. Силовики – понятие собирательное, им обозначают любые органы государственной власти, имеющие прямой контроль над ресурсом принуждения и насилия. Организаций, соответствующих этому определению много, но внимание следует уделить тем, что имеют влияние на внутреннюю политику страны и призваны непосредственно оказывать услуги гражданам по охране их прав. Потому заострим наше внимание прежде всего на полицейских органах. Экономист Европейского университета Вадим Волков в своей книге «Силовое предпринимательство» постулирует, что из трех видов ресурсов – силовых, экономических и символических, силовики владеют первым, но имеют наибольшую склонность к присвоению всех остальных.
В чем проблема силовиков в России?
Главная дилемма государственного контроля над насилием состоит в выборе между общественным благом, соблюдением своих должностных обязанностей и извлечением частной выгоды, пользуясь, в терминах Макса Вебера, монополией на легитимное насилие. В странах с высоким уровнем включенности граждан в легальный политический процесс силовые институты находятся под строгим надзором гражданского общества. Контроль над насилием отличается транспарентностью и инклюзией доступа к наблюдению и регулированию исполнительной ветви власти, что не наблюдается в России сегодня.
В чем проблема полиции?
Россия находится в числе стран с высоким уровнем насилия со стороны полицейских органов. Но в отличие от стран с высоким уровнем насилия от применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия в ходе патрульной службы (например, США, где полицейские убивают до тысячи человек в год) отечественные правоохранители совершают акты насилия прежде всего в изоляторах и других местах содержания задержанных и арестованных.
Но статистика говорит, что полицейские совершают насилие не так уж часто. Почему так?
Российская статистика недостаточно эффективно отражает уровень полицейского насилия. По мнению социолога Эллы Панеях большая часть преступлений просто не попадет в статистику в связи с увольнением сотрудника задним числом, и это при том, что 78% заявлений о насилии со стороны органов правопорядка отклоняются российскими судами. Во многом причиной отказа в возбуждении дела служит то, что следствие над полицией осуществляет Следственный комитет, работающий с полицией напрямую в ходе других дел. Таким образом, в России наблюдается отсутствие системы сдержек и противовесов поскольку возбуждать дело против своего коллеги себе дороже.
На сегодняшний день аппарат насилия в России многообразен и сложен. Основными его агентами выступают силовые структуры, подчиненные федеральному центру и черпающие средства исключительно из федерального бюджета. Уровень насилия в стране в целом ниже, чем десять лет назад, и тем более ниже, чем в девяностые годы, когда на 100 000 человек приходилось 10 и более убийств. Однако, согласно последним данным уровень безопасности в стране остается на сравнительно низком уровне, сопоставимым со странами третьего мира. Причиной тому служит масса факторов: от произвола, коррумпированности силовиков и закономерно низкого уровня доверия граждан к правоохранительным органам, вынуждающим зачастую прибегать к неправовым способам решения конфликтов. Все это характеризует Россию, как страну системы ограниченного доступа.
Что значит «система ограниченного доступа»?
Система ограниченного доступа описана в работе американского экономиста Дугласа Норта «Насилие и социальные порядки». Такая система характеризуется способом контроля над насилием в обществе, основанном прежде всего на личных взаимосвязях, гиперцентрализации власти и отсутствии верховенства права. Модель ограниченного доступа представляется Нортом естественным установленным в государствах порядком, то есть большинство стран в мире относятся к этому типу.
Власть в государствах ограниченного доступа распределяется согласно установленным в правящей коалиции правилам, а насилие распределяется лишь в отношении не относящихся к элитам массам, дабы не вредить друг другу процессу извлечения эксклюзивной административной ренты.
Самой значимой частью именно такой закрытой правящей коалиции выступают в России силовики.
Кто такие силовики?
Западная политическая наука описывает силовиков (даже не переводя само слово «силовики»), как особый класс российских госслужащих , имеющих потенциал применения насилия в политических целях. Силовики – понятие собирательное, им обозначают любые органы государственной власти, имеющие прямой контроль над ресурсом принуждения и насилия. Организаций, соответствующих этому определению много, но внимание следует уделить тем, что имеют влияние на внутреннюю политику страны и призваны непосредственно оказывать услуги гражданам по охране их прав. Потому заострим наше внимание прежде всего на полицейских органах. Экономист Европейского университета Вадим Волков в своей книге «Силовое предпринимательство» постулирует, что из трех видов ресурсов – силовых, экономических и символических, силовики владеют первым, но имеют наибольшую склонность к присвоению всех остальных.
В чем проблема силовиков в России?
Главная дилемма государственного контроля над насилием состоит в выборе между общественным благом, соблюдением своих должностных обязанностей и извлечением частной выгоды, пользуясь, в терминах Макса Вебера, монополией на легитимное насилие. В странах с высоким уровнем включенности граждан в легальный политический процесс силовые институты находятся под строгим надзором гражданского общества. Контроль над насилием отличается транспарентностью и инклюзией доступа к наблюдению и регулированию исполнительной ветви власти, что не наблюдается в России сегодня.
В чем проблема полиции?
Россия находится в числе стран с высоким уровнем насилия со стороны полицейских органов. Но в отличие от стран с высоким уровнем насилия от применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия в ходе патрульной службы (например, США, где полицейские убивают до тысячи человек в год) отечественные правоохранители совершают акты насилия прежде всего в изоляторах и других местах содержания задержанных и арестованных.
Но статистика говорит, что полицейские совершают насилие не так уж часто. Почему так?
Российская статистика недостаточно эффективно отражает уровень полицейского насилия. По мнению социолога Эллы Панеях большая часть преступлений просто не попадет в статистику в связи с увольнением сотрудника задним числом, и это при том, что 78% заявлений о насилии со стороны органов правопорядка отклоняются российскими судами. Во многом причиной отказа в возбуждении дела служит то, что следствие над полицией осуществляет Следственный комитет, работающий с полицией напрямую в ходе других дел. Таким образом, в России наблюдается отсутствие системы сдержек и противовесов поскольку возбуждать дело против своего коллеги себе дороже.
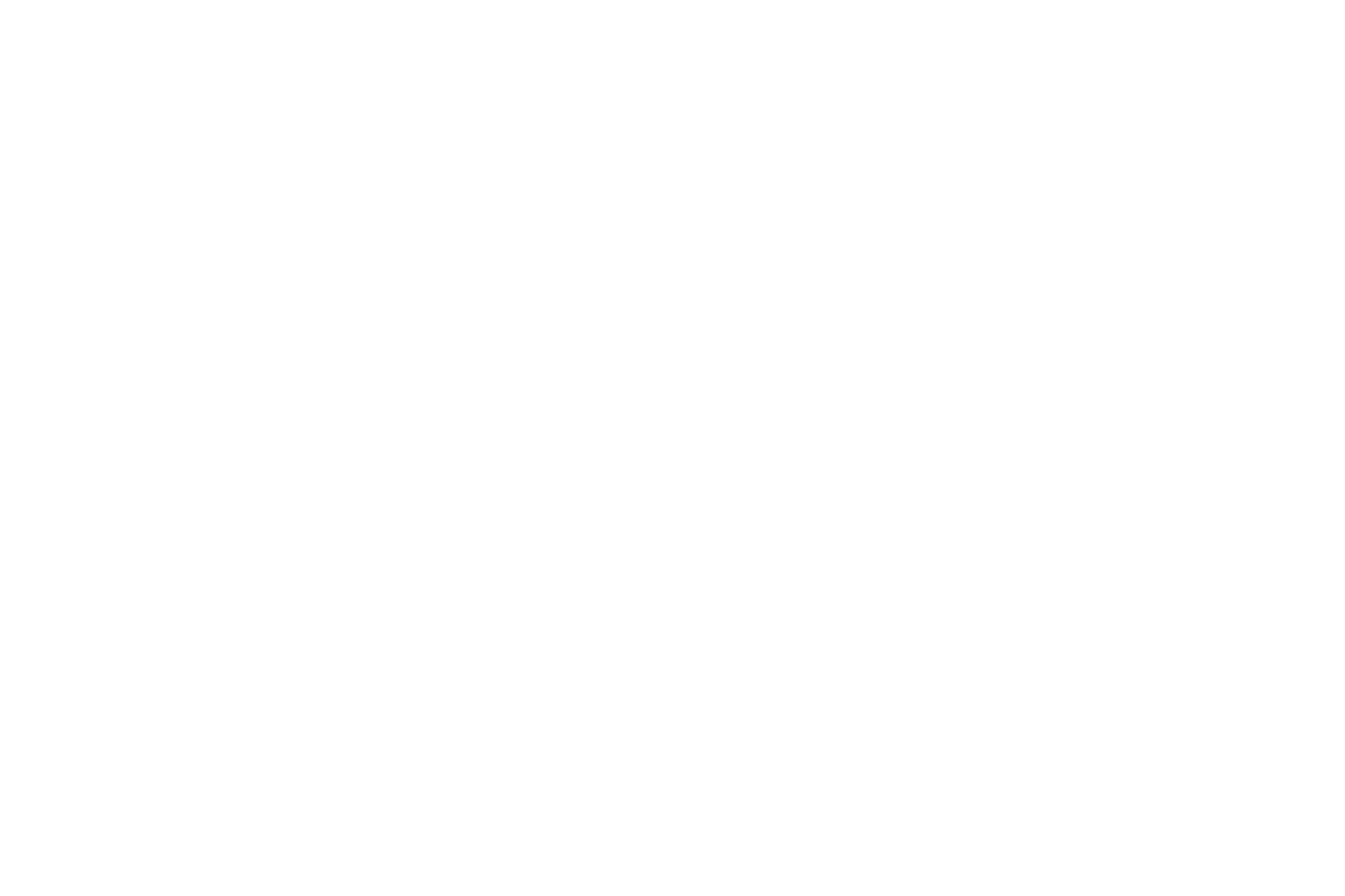
Но если разделить силовиков, то это приведет к их грызне друг с другом, а не с преступностью?
Силовики и без того конфликтуют друг с другом. Только в отличии от США, где притчей во языцех стал конфликт местных копов и ФБР, силовики в России конфликтуют не за полномочия в расследовании дел и соответствующие бенефиты в их раскрытии, а за контроль над экономическими активами и политическим ресурсом. В этом контексте нельзя не упомянуть пресловутое дело ЮКОСа, ставшей одной из первых побед «лубянских» над остальными силовиками, особенно МВД во главе с Рушайло. К кейсам этого же порядка относится знаменитое дело «Трех китов», иллюстрировавшее конфликт таможенной службы, прокуратуры и ФСБ. Отдельным примером служит «игорное дело» 2011 году, столкнувшее Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД.
Все это говорит о латентной холодной войне между силовиками, (что, впрочем не мешает ей часто перерастать в «горячую» жертвами среди гражданских) ведущейся за кулисами публичной политики и влекущей издержки для всего российского общества.
Почему силовики должны ограничивать себя в применении насилия, это же их работа?
На самом деле, толерантность к насилию среди силовиков вредит прежде всего им самим. Социальные практики, применяемые к рядовым гражданам, экстраполируются на личный состав сотрудников правоохранительных органов. Следствием этого является катастрофический уровень самоубийств среди силовиков и прежде всего полицейских. Помимо этого, большая часть силовиков лишена какой бы то ни было защиты от правонарушений со стороны начальства. Как отмечается главой независимого профсоюза полиции Владимира Воронцова (ныне содержащегося в СИЗО по фабрикуемым делам) нередки случаи внутреннего вымогательства, практики коллективной ответственности и принуждения к совершению правонарушений.
И что же со всем этим делать?
Большая часть экспертов сходится во мнении, что децентрализация полицейского аппарата является необходимым условием уменьшения уровня насилия в российском обществе. Подчинение полиции местным муниципальным органам власти поможет избавиться от архаичной практики АППГ (аналогичный период прошлого года) и «палочной системы», создающих насилие за счет «преступлений без жертвы», план раскрываемости которых требует центральное министерское руководство от областных и прочих отделов внутренних дел. Раскрываемость является краеугольным камнем всех силовых ведомств. Работа над сложными тяжкими делами требует больших трудо/времязатрат, когда как найти и доказать преступление в сети по 282, 280, 148 и прочим спорным статьям УК дело нехитрое и сразу улучшающее показатели отдела для людей «наверху». Стоит оговориться, что как отмечает глава правозащитной организации Агора Павел Чиков, децентрализация полицейской системы не имеет смысла без расширения полномочий местных органов самоуправления и реформы налоговой системы.
Но ведь децентрализация приведет к сращиванию местной полиции и криминалитета?
Во-первых, по словам социолога Кирилла Титаева преступное сращивание полиции уже происходит с крупными федеральными структурами. От вышестоящего начальства легче скрыть нарушения, чем от местных надзорных органов.
Во-вторых, здесь снова стоит вспомнить Дугласа Норта. В его работе описано, что одним из способов перехода к системе открытого доступа является размывание коалиции элит за счет включения в неё новых игроков. Таким образом, при снижении доли выгоды каждого участника коалиции у элит появится запрос на решение конфликтов правовым путем вместо эксплуатации личных связей, которых не всем уже будет хватать. На основе этой концепции можно выработать систему сдержек и противовесов, создав автономные полицейские структуры на разных уровнях подчинения. Конфликт муниципальных и региональных полицейских органов будет балансировать объем продуцируемого ими насилия.
В-третьих, сращиванию силовых органов с любыми другими структурами призван препятствовать институт выбора шерифов, распространенный в США и обеспечивающий эффективность и независимость полиции на окружном уровне. Выборность органов власти так же свойственна системам открытого доступа. Практика выборов повышает вовлеченность граждан в обеспечение безопасности на локальном уровне, а вероятность не быть переизбранным на новый срок служит для шерифов дополнительным дисциплинирующим фактором.
Зачем постоянно приводить в пример США?
По утверждению правозащитника Павла Чикова, не стоит рассматривать ни один зарубежный механизм работы полиции, как готовую формулу. Ошибка полицейской реформы 2010 года как раз и заключалась в создании карго-культа вокруг западного образа полиции, когда как в реальности изменения были не слишком значительны. В США хватает реальных проблем в полиции. Их уровень полицейского вооруженного насилия порой переходит все границы, а пенитенциарная система является однозначно одной из худших в мире. Но это не значит, что не стоит заимствовать и адаптировать лучшие элементы иностранных систем.
Да, проблема в самих полицейских, тут уже ничего не изменишь!
Совсем наоборот, в среде полицейских масса людей, искренне желающих служить людям. Но текущие институты создают стимулы при которых становится выгодно занижать количество возбуждаемых дел (отсюда отказы в принятии заявлений) и завышать количество раскрытых с применений не всегда законных практик. Выходом из этой ситуации, помимо всего прочего, может стать введение института независимых опросов домохозяйств, то есть использовать данные не только номинально регистрируемой преступности.
Помимо этого, «омбудсмен полиции» Владимир Воронцов предлагал действовать по примеру реформы полиции Саакашвили в Грузии 2004 года. Атмосферу порядка и открытости помогают поддерживать прозрачные стены зданий полицейских участков и прямая трансляция с камер во всех частях здания на мониторы в холле.
Немаловажным элементом общественного контроля над насилием станет институт независимых общественно наблюдательных комиссий. ОНК существуют и сегодня, но в основном собирается из бывших силовиков самими полицейскими ведомствами. Иногда добросовестным их представителям удается пробиться к задержанным для решения их проблем, зачастую только ОНК и оказывает необходимую поддержку. Но несоблюдение принципа - система не должна оценивать сама себя, не дает ОНК работать достаточно эффективно.
Следующим шагом к минимизации насилия может стать демилитаризация полиции. Высокий уровень военизированности, по мнению социолога Института проблем правоприменения Кирилла Титаева, создает особую культуру высокой терпимости к насилию, свойственную закрытым мужским сообществам. Кирилл Титаев описывает реформу вооруженных сил конца девяностых, когда появление новых гражданских подразделений министерства обороны существенно снизило объем насилия. Этот эффект объясняется культурой стыда, создаваемой носителями морали отличной от стандартной воинской этики.
Если все так просто, то почему этого еще не произошло?
К сожалению, все совсем не так просто. Проблема насилия со стороны правоохранительных органов коренится в самой сути авторитарной модели правления. Пользуясь понятийным аппаратом экономистов Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона, в России преобладают экстрактивные институты вместо инклюзивных. Другими словами, элиты пользуются властью прежде всего для извлечения административной ренты, политическая власть нередко сращена с экономической, а органы правопорядка часто заняты в так называемом «силовом предпринимательстве» – феномене продажи силовиками ресурса псевдо-легального насилия, описанном в одноименной работе экономиста Вадима Волкова.
Немаловажным остается и то, что описанные реформы направлены против интересов множества текущих служащих органов внутренних дел. Повышение качества управление неизменно влечет сокращение штатов. Это лишает занятости огромное число людей, имеющих оперативный или даже боевой опыт из чего следуют очевидный рост преступности. Вариантами решения этой проблемы могут стать переход к полностью контрактным вооруженным силам или легализация частных военных компаний, создающих спрос на рынке готовых к насилию людей. Однако, это само по себе является отдельным проблемным полем.
Так или иначе, ключом к комплексному разрешению всех описанных проблем может стать только постепенный демократический транзит, федерализация власти и радикальное преобразование судебной системы.
Силовики и без того конфликтуют друг с другом. Только в отличии от США, где притчей во языцех стал конфликт местных копов и ФБР, силовики в России конфликтуют не за полномочия в расследовании дел и соответствующие бенефиты в их раскрытии, а за контроль над экономическими активами и политическим ресурсом. В этом контексте нельзя не упомянуть пресловутое дело ЮКОСа, ставшей одной из первых побед «лубянских» над остальными силовиками, особенно МВД во главе с Рушайло. К кейсам этого же порядка относится знаменитое дело «Трех китов», иллюстрировавшее конфликт таможенной службы, прокуратуры и ФСБ. Отдельным примером служит «игорное дело» 2011 году, столкнувшее Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД.
Все это говорит о латентной холодной войне между силовиками, (что, впрочем не мешает ей часто перерастать в «горячую» жертвами среди гражданских) ведущейся за кулисами публичной политики и влекущей издержки для всего российского общества.
Почему силовики должны ограничивать себя в применении насилия, это же их работа?
На самом деле, толерантность к насилию среди силовиков вредит прежде всего им самим. Социальные практики, применяемые к рядовым гражданам, экстраполируются на личный состав сотрудников правоохранительных органов. Следствием этого является катастрофический уровень самоубийств среди силовиков и прежде всего полицейских. Помимо этого, большая часть силовиков лишена какой бы то ни было защиты от правонарушений со стороны начальства. Как отмечается главой независимого профсоюза полиции Владимира Воронцова (ныне содержащегося в СИЗО по фабрикуемым делам) нередки случаи внутреннего вымогательства, практики коллективной ответственности и принуждения к совершению правонарушений.
И что же со всем этим делать?
Большая часть экспертов сходится во мнении, что децентрализация полицейского аппарата является необходимым условием уменьшения уровня насилия в российском обществе. Подчинение полиции местным муниципальным органам власти поможет избавиться от архаичной практики АППГ (аналогичный период прошлого года) и «палочной системы», создающих насилие за счет «преступлений без жертвы», план раскрываемости которых требует центральное министерское руководство от областных и прочих отделов внутренних дел. Раскрываемость является краеугольным камнем всех силовых ведомств. Работа над сложными тяжкими делами требует больших трудо/времязатрат, когда как найти и доказать преступление в сети по 282, 280, 148 и прочим спорным статьям УК дело нехитрое и сразу улучшающее показатели отдела для людей «наверху». Стоит оговориться, что как отмечает глава правозащитной организации Агора Павел Чиков, децентрализация полицейской системы не имеет смысла без расширения полномочий местных органов самоуправления и реформы налоговой системы.
Но ведь децентрализация приведет к сращиванию местной полиции и криминалитета?
Во-первых, по словам социолога Кирилла Титаева преступное сращивание полиции уже происходит с крупными федеральными структурами. От вышестоящего начальства легче скрыть нарушения, чем от местных надзорных органов.
Во-вторых, здесь снова стоит вспомнить Дугласа Норта. В его работе описано, что одним из способов перехода к системе открытого доступа является размывание коалиции элит за счет включения в неё новых игроков. Таким образом, при снижении доли выгоды каждого участника коалиции у элит появится запрос на решение конфликтов правовым путем вместо эксплуатации личных связей, которых не всем уже будет хватать. На основе этой концепции можно выработать систему сдержек и противовесов, создав автономные полицейские структуры на разных уровнях подчинения. Конфликт муниципальных и региональных полицейских органов будет балансировать объем продуцируемого ими насилия.
В-третьих, сращиванию силовых органов с любыми другими структурами призван препятствовать институт выбора шерифов, распространенный в США и обеспечивающий эффективность и независимость полиции на окружном уровне. Выборность органов власти так же свойственна системам открытого доступа. Практика выборов повышает вовлеченность граждан в обеспечение безопасности на локальном уровне, а вероятность не быть переизбранным на новый срок служит для шерифов дополнительным дисциплинирующим фактором.
Зачем постоянно приводить в пример США?
По утверждению правозащитника Павла Чикова, не стоит рассматривать ни один зарубежный механизм работы полиции, как готовую формулу. Ошибка полицейской реформы 2010 года как раз и заключалась в создании карго-культа вокруг западного образа полиции, когда как в реальности изменения были не слишком значительны. В США хватает реальных проблем в полиции. Их уровень полицейского вооруженного насилия порой переходит все границы, а пенитенциарная система является однозначно одной из худших в мире. Но это не значит, что не стоит заимствовать и адаптировать лучшие элементы иностранных систем.
Да, проблема в самих полицейских, тут уже ничего не изменишь!
Совсем наоборот, в среде полицейских масса людей, искренне желающих служить людям. Но текущие институты создают стимулы при которых становится выгодно занижать количество возбуждаемых дел (отсюда отказы в принятии заявлений) и завышать количество раскрытых с применений не всегда законных практик. Выходом из этой ситуации, помимо всего прочего, может стать введение института независимых опросов домохозяйств, то есть использовать данные не только номинально регистрируемой преступности.
Помимо этого, «омбудсмен полиции» Владимир Воронцов предлагал действовать по примеру реформы полиции Саакашвили в Грузии 2004 года. Атмосферу порядка и открытости помогают поддерживать прозрачные стены зданий полицейских участков и прямая трансляция с камер во всех частях здания на мониторы в холле.
Немаловажным элементом общественного контроля над насилием станет институт независимых общественно наблюдательных комиссий. ОНК существуют и сегодня, но в основном собирается из бывших силовиков самими полицейскими ведомствами. Иногда добросовестным их представителям удается пробиться к задержанным для решения их проблем, зачастую только ОНК и оказывает необходимую поддержку. Но несоблюдение принципа - система не должна оценивать сама себя, не дает ОНК работать достаточно эффективно.
Следующим шагом к минимизации насилия может стать демилитаризация полиции. Высокий уровень военизированности, по мнению социолога Института проблем правоприменения Кирилла Титаева, создает особую культуру высокой терпимости к насилию, свойственную закрытым мужским сообществам. Кирилл Титаев описывает реформу вооруженных сил конца девяностых, когда появление новых гражданских подразделений министерства обороны существенно снизило объем насилия. Этот эффект объясняется культурой стыда, создаваемой носителями морали отличной от стандартной воинской этики.
Если все так просто, то почему этого еще не произошло?
К сожалению, все совсем не так просто. Проблема насилия со стороны правоохранительных органов коренится в самой сути авторитарной модели правления. Пользуясь понятийным аппаратом экономистов Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона, в России преобладают экстрактивные институты вместо инклюзивных. Другими словами, элиты пользуются властью прежде всего для извлечения административной ренты, политическая власть нередко сращена с экономической, а органы правопорядка часто заняты в так называемом «силовом предпринимательстве» – феномене продажи силовиками ресурса псевдо-легального насилия, описанном в одноименной работе экономиста Вадима Волкова.
Немаловажным остается и то, что описанные реформы направлены против интересов множества текущих служащих органов внутренних дел. Повышение качества управление неизменно влечет сокращение штатов. Это лишает занятости огромное число людей, имеющих оперативный или даже боевой опыт из чего следуют очевидный рост преступности. Вариантами решения этой проблемы могут стать переход к полностью контрактным вооруженным силам или легализация частных военных компаний, создающих спрос на рынке готовых к насилию людей. Однако, это само по себе является отдельным проблемным полем.
Так или иначе, ключом к комплексному разрешению всех описанных проблем может стать только постепенный демократический транзит, федерализация власти и радикальное преобразование судебной системы.
Что почитать еще?