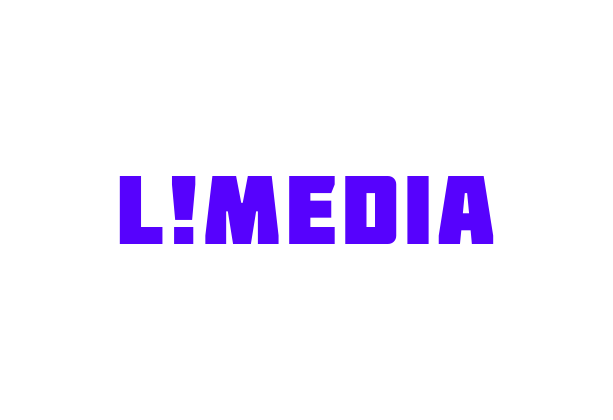13 декабря / 2023
Маргарита Баева — человек, влюбленный в далекий Русский Север
Авторы: Светлана Лылова, Ксения Гапонова, Софья Придворова
Редактор: Анна Никитина
Фото: Софья Придворова
Редактор: Анна Никитина
Фото: Софья Придворова
В рабочее время Маргарита Баева — учитель русского языка и литературы, а в свободное — руководитель фонда «Вереница», спасающего памятники деревянного зодчества на Русском Севере. Она рассказала о своем пути к волонтерству и любви к северной земле.
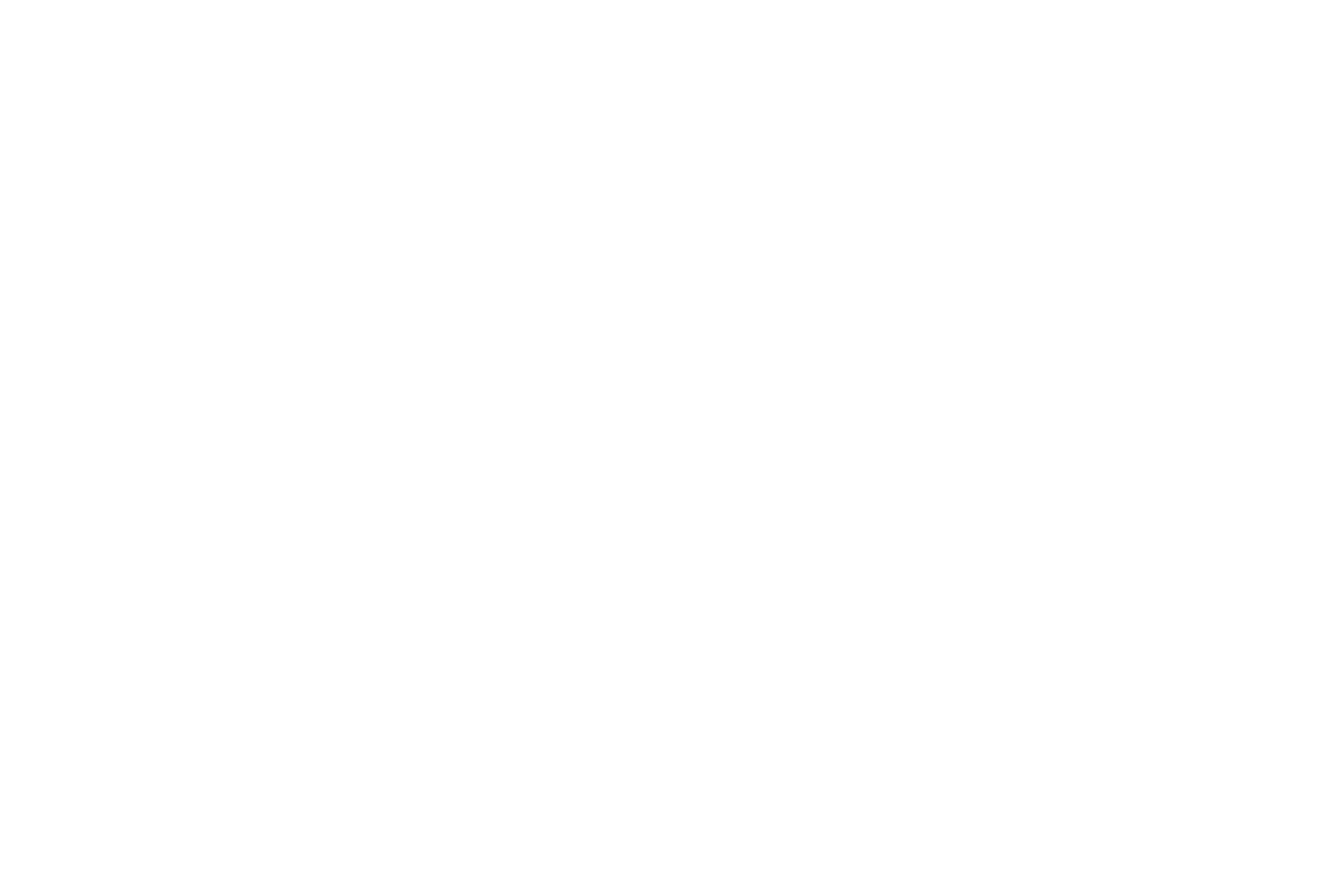
Маргарита Баева около вагончика-мастерской фонда «Вереница».
Фото: Софья Придворова
Фото: Софья Придворова
В Москве одна жизнь, а там — какая-то другая
В детстве я хотела быть лесником. Я очень люблю лес и в детстве часто читала повесть Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери». Папа работал на Севере, снимал фильмы. Он привозил книги о деревнях: Юрия Казакова и Юрия Арбата. Казаков прекрасно писал про Север, храмы и про людей, которые там живут. Чувствовалось, что это что-то настоящее. Было так удивительно: понимать, что в Москве одна жизнь, а там — какая-то другая. Очень хотелось на нее посмотреть. После прочтения всех тех рассказов о природе мне и захотелось работать лесником. Но лесной институт находился очень далеко, а профессия педагога была перед глазами с самого детства.
У меня была идея где-то помочь, чтобы проявить себя как гражданина
Раньше я была активной комсомолкой, даже больше активной пионеркой. После школы я два года отработала вожатой, и когда все это рухнуло, во мне осталась искренняя любовь к работе и готовность заниматься полезными делами.
Сейчас я удивляюсь тому, что тогда попала в ВООПИиК [«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» — добровольная общественная организация. — Прим. авт.]. Эта организация проводила субботники в Москве и Подмосковье: в церквях, монастырях, парках и музеях. Летом отряды добровольцев отправлялись на Север. У меня была идея куда-то пойти, показать себя как гражданина, где-то помочь. В «Московском комсомольце» периодически печатались объявления. Павел Борисович Дейнека приглашал добровольных помощников реставраторов в тот самый ВООПИиК. Он тогда преподавал историю в вузе, а в свободное время печатал эти объявления. Я читала их, наверное, весь 1990-й год. А в 91-ом стала молодым учителем. У меня еще не было своего класса, поэтому линейку 1 сентября я решила не посещать. Вместо этого пошла на субботник в Рождественский монастырь. Там же, на волонтерских работах в монастыре, мы познакомились с будущим мужем. Он сейчас не помогает мне работать, уже устал. Но и не мешает.
Тогда мне было 19 лет. Со второго года учебы на филологическом факультете начала преподавать, потому что учителей в школах не хватало. Пригласила меня в школу моя бывшая учительница рисования. Тогда она сказала: «Маргарита, учителей нет. Приходи. Мы тебе сразу дадим один класс». Я не знала, как буду преподавать, но все равно согласилась. Училась по методичкам, потихонечку сама росла с этими детьми. Первое время страшно было, они меня не слушались. Да и не удивительно — им 12 лет, а тут пришла 19-летняя девушка их учить. В школе я проработала 7 лет, а потом перешла в вуз. Долгие годы преподавала русский язык как иностранный китайцам в педагогическом университете. Их посылали обеспеченные родители в Россию, многие студенты даже не понимали, зачем они учат язык. Однажды заведующий кафедрой спросил девочку, которая почти ничего не учила, зачем она сюда приехала. До сих пор помню эти красивые глаза, поднятые к небу в немом вопросе: «Почему я здесь?». Также было и с моим приходом в волонтерство.
Помню, был апрель 91-го года. Мы с подружками пришли к работникам ВООПИиКа проситься на Север в летний отряд. Они говорят: «Ну разве только женщинами для еды [готовить еду. — Прим. авт.]». А мы говорим: «У нас и мальчики есть». В итоге мы, 10 человек, поехали в отряд в помощь деревянному зодчеству на середину Северной Двины. На свои деньги ездили, никаких спонсоров не было. Продукты, дорога, работа — все с нас. От организации нам давали только научного руководителя и куратора.
В детстве я хотела быть лесником. Я очень люблю лес и в детстве часто читала повесть Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери». Папа работал на Севере, снимал фильмы. Он привозил книги о деревнях: Юрия Казакова и Юрия Арбата. Казаков прекрасно писал про Север, храмы и про людей, которые там живут. Чувствовалось, что это что-то настоящее. Было так удивительно: понимать, что в Москве одна жизнь, а там — какая-то другая. Очень хотелось на нее посмотреть. После прочтения всех тех рассказов о природе мне и захотелось работать лесником. Но лесной институт находился очень далеко, а профессия педагога была перед глазами с самого детства.
У меня была идея где-то помочь, чтобы проявить себя как гражданина
Раньше я была активной комсомолкой, даже больше активной пионеркой. После школы я два года отработала вожатой, и когда все это рухнуло, во мне осталась искренняя любовь к работе и готовность заниматься полезными делами.
Сейчас я удивляюсь тому, что тогда попала в ВООПИиК [«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» — добровольная общественная организация. — Прим. авт.]. Эта организация проводила субботники в Москве и Подмосковье: в церквях, монастырях, парках и музеях. Летом отряды добровольцев отправлялись на Север. У меня была идея куда-то пойти, показать себя как гражданина, где-то помочь. В «Московском комсомольце» периодически печатались объявления. Павел Борисович Дейнека приглашал добровольных помощников реставраторов в тот самый ВООПИиК. Он тогда преподавал историю в вузе, а в свободное время печатал эти объявления. Я читала их, наверное, весь 1990-й год. А в 91-ом стала молодым учителем. У меня еще не было своего класса, поэтому линейку 1 сентября я решила не посещать. Вместо этого пошла на субботник в Рождественский монастырь. Там же, на волонтерских работах в монастыре, мы познакомились с будущим мужем. Он сейчас не помогает мне работать, уже устал. Но и не мешает.
Тогда мне было 19 лет. Со второго года учебы на филологическом факультете начала преподавать, потому что учителей в школах не хватало. Пригласила меня в школу моя бывшая учительница рисования. Тогда она сказала: «Маргарита, учителей нет. Приходи. Мы тебе сразу дадим один класс». Я не знала, как буду преподавать, но все равно согласилась. Училась по методичкам, потихонечку сама росла с этими детьми. Первое время страшно было, они меня не слушались. Да и не удивительно — им 12 лет, а тут пришла 19-летняя девушка их учить. В школе я проработала 7 лет, а потом перешла в вуз. Долгие годы преподавала русский язык как иностранный китайцам в педагогическом университете. Их посылали обеспеченные родители в Россию, многие студенты даже не понимали, зачем они учат язык. Однажды заведующий кафедрой спросил девочку, которая почти ничего не учила, зачем она сюда приехала. До сих пор помню эти красивые глаза, поднятые к небу в немом вопросе: «Почему я здесь?». Также было и с моим приходом в волонтерство.
Помню, был апрель 91-го года. Мы с подружками пришли к работникам ВООПИиКа проситься на Север в летний отряд. Они говорят: «Ну разве только женщинами для еды [готовить еду. — Прим. авт.]». А мы говорим: «У нас и мальчики есть». В итоге мы, 10 человек, поехали в отряд в помощь деревянному зодчеству на середину Северной Двины. На свои деньги ездили, никаких спонсоров не было. Продукты, дорога, работа — все с нас. От организации нам давали только научного руководителя и куратора.
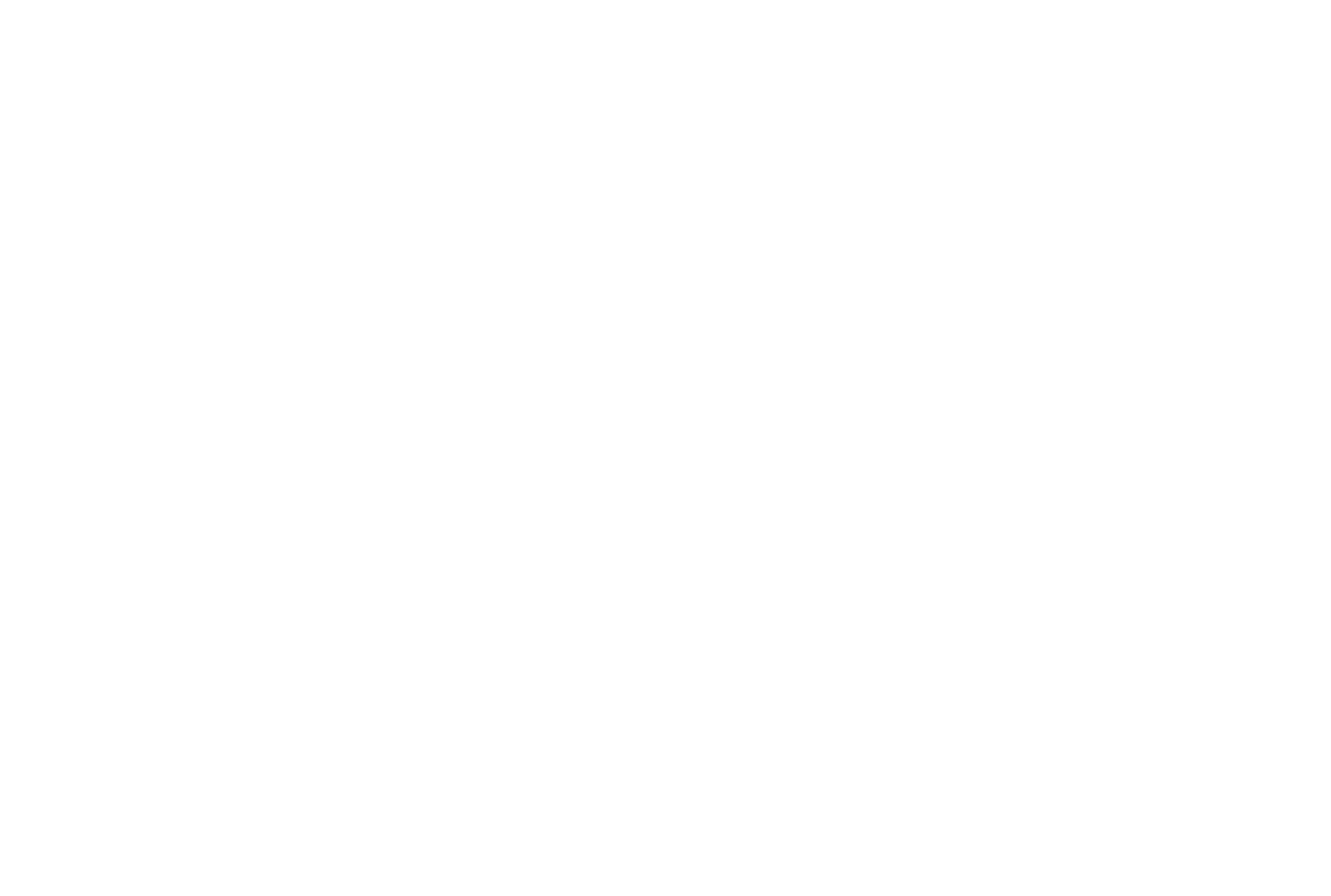
Карта Архангельской области на стене мастерской «Вереницы».
Фото: Софья Придворова
Фото: Софья Придворова
Добирались два дня. Сначала ехали поездом до Архангельска, дальше ночь плыли на корабле вверх по Северной Двине. Нужно было сделать крюк — иначе не доехать, дорог нет. Оказались мы в большой, но уже почти пустой деревне Кальи. На окраине стоял деревянный тройник. Тройник — это зимняя, летняя церкви и колокольня. Там мы отработали две недели. Тогда я и заболела Севером, наверное.
На следующий год мы снова хотели туда поехать, но после распада СССР ВООПИиК не смог организовать эти работы. Да и там, наверное, уже не могли нас принять, не было мастера нам в помощь. А сами мы что могли? Мы были птенцами 20-летними. Даже не знали, как туда добраться. В 2009 году я узнала, что те храмы сгорели: низовой пожар. Если б я туда ездила косить траву, то этого могло бы и не случиться. Тройников очень мало осталось. Калежский погост сгорел в 2006 году, и новость до меня шла три года. Когда узнала, я поплакала даже, очень обидно было. Поэтому, наверное, и возникла «Вереница» — с горя и отчаяния.
На следующий год мы снова хотели туда поехать, но после распада СССР ВООПИиК не смог организовать эти работы. Да и там, наверное, уже не могли нас принять, не было мастера нам в помощь. А сами мы что могли? Мы были птенцами 20-летними. Даже не знали, как туда добраться. В 2009 году я узнала, что те храмы сгорели: низовой пожар. Если б я туда ездила косить траву, то этого могло бы и не случиться. Тройников очень мало осталось. Калежский погост сгорел в 2006 году, и новость до меня шла три года. Когда узнала, я поплакала даже, очень обидно было. Поэтому, наверное, и возникла «Вереница» — с горя и отчаяния.
Я поняла, что нужно идти туда, где нет никаких денег и где скоро что-то рухнет
Лет 15 мы ездили на Соловки, копали с археологами, тоже было очень интересно. Мы договаривались и куда-то ехали: остров Коневец в Ладожском озере, на Валааме были. Почему-то хотелось на Север, в эти монастыри, которые подальше. Там были нужны рабочие руки. К Соловкам мы прикипели сердцем. В 1994 году начали, и до сих пор наш командир туда ездит. А я больше не могу. В 90-е было прекрасно, в начале 00-х тоже, а дальше пришли большие деньги — пришло много туристов. И уже чувствуешь, что-то не то. Я поняла, что нужно идти туда, где нет никаких денег и где скоро что-то рухнет.
У меня есть подруга, Светлана Рапенкова, она с друзьями открыла Соловецкий морской музей. Я пришла к ней за советом. Говорю: «Света, что делать? Вот храмы сгорели в Кальях, хочу помочь. Она сказала мне идти к отцу Алексею из проекта «Общее дело», может, он что-то посоветует. Он сказал нам: «Ребята, у нас уже отряды кончились. Мы вас сейчас никуда взять не можем. А какое у вас время есть?» Мы говорим: «Неделя». И он показал нам крестик на карте.
Тогда еще нельзя было посмотреть местоположение на сайте, и мы шли вслепую 40 километров сельскими дорогами. Временами нас, конечно, подвозили. Мы пришли и увидели очень красивый объект. Это был Никольский храм в деревне Гридинская Архангельской области. Я подумала, что даже если старший станет выгонять, то я останусь. Но все было нормально. За четыре дня мы провели простые противоаварийные работы, залатали дыры. На следующий год еще приехали. Я поняла, что объектом надо продолжать заниматься. Сейчас уже 14-ый год мы там работаем. Это наш главный храм, в нем уже заканчивается реставрация.
Лет 15 мы ездили на Соловки, копали с археологами, тоже было очень интересно. Мы договаривались и куда-то ехали: остров Коневец в Ладожском озере, на Валааме были. Почему-то хотелось на Север, в эти монастыри, которые подальше. Там были нужны рабочие руки. К Соловкам мы прикипели сердцем. В 1994 году начали, и до сих пор наш командир туда ездит. А я больше не могу. В 90-е было прекрасно, в начале 00-х тоже, а дальше пришли большие деньги — пришло много туристов. И уже чувствуешь, что-то не то. Я поняла, что нужно идти туда, где нет никаких денег и где скоро что-то рухнет.
У меня есть подруга, Светлана Рапенкова, она с друзьями открыла Соловецкий морской музей. Я пришла к ней за советом. Говорю: «Света, что делать? Вот храмы сгорели в Кальях, хочу помочь. Она сказала мне идти к отцу Алексею из проекта «Общее дело», может, он что-то посоветует. Он сказал нам: «Ребята, у нас уже отряды кончились. Мы вас сейчас никуда взять не можем. А какое у вас время есть?» Мы говорим: «Неделя». И он показал нам крестик на карте.
Тогда еще нельзя было посмотреть местоположение на сайте, и мы шли вслепую 40 километров сельскими дорогами. Временами нас, конечно, подвозили. Мы пришли и увидели очень красивый объект. Это был Никольский храм в деревне Гридинская Архангельской области. Я подумала, что даже если старший станет выгонять, то я останусь. Но все было нормально. За четыре дня мы провели простые противоаварийные работы, залатали дыры. На следующий год еще приехали. Я поняла, что объектом надо продолжать заниматься. Сейчас уже 14-ый год мы там работаем. Это наш главный храм, в нем уже заканчивается реставрация.
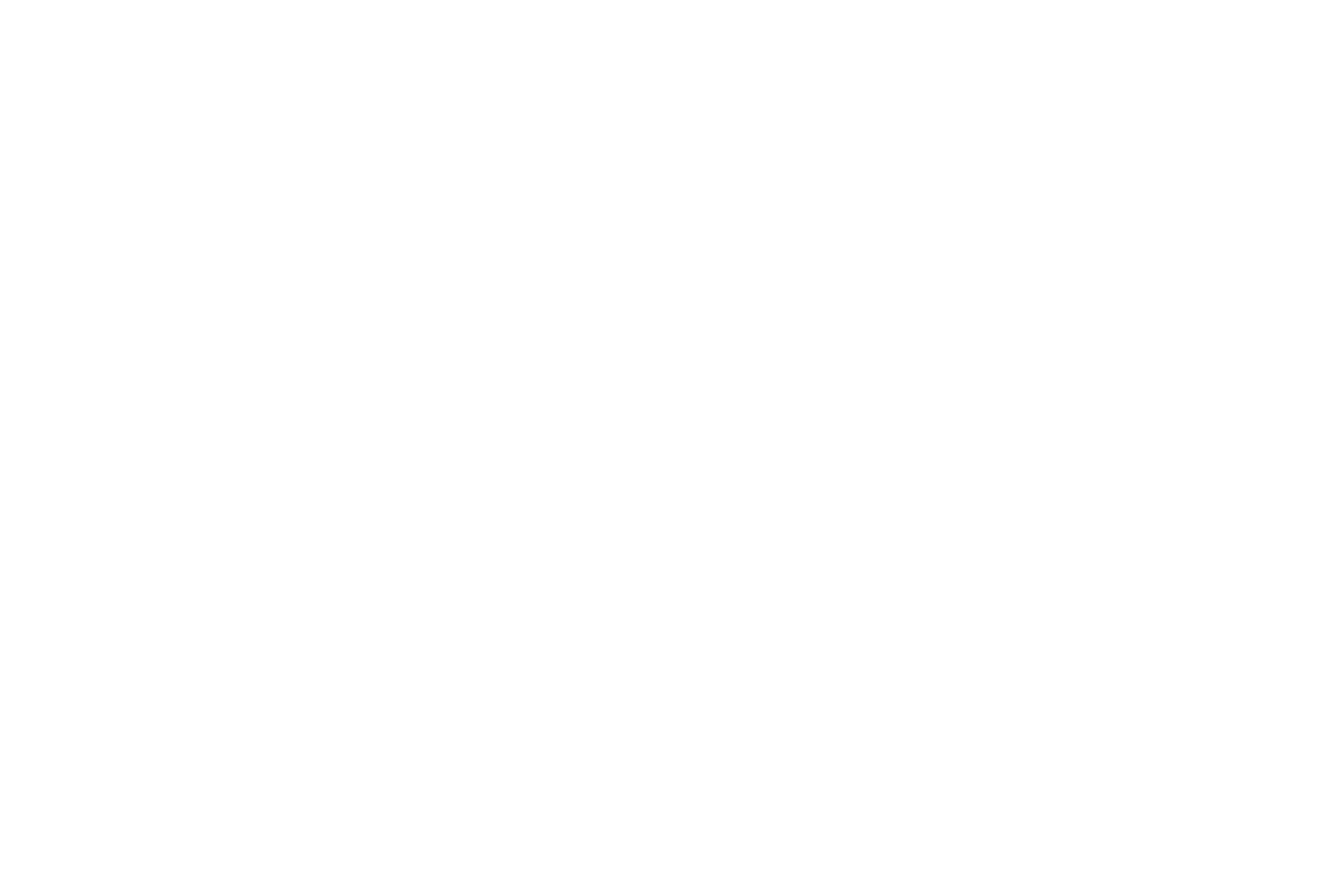
Календарь с Никольской церковью в деревне Гридинская Архангельской области в вагончике «Вереницы».
Фото: Софья Придворова
Фото: Софья Придворова
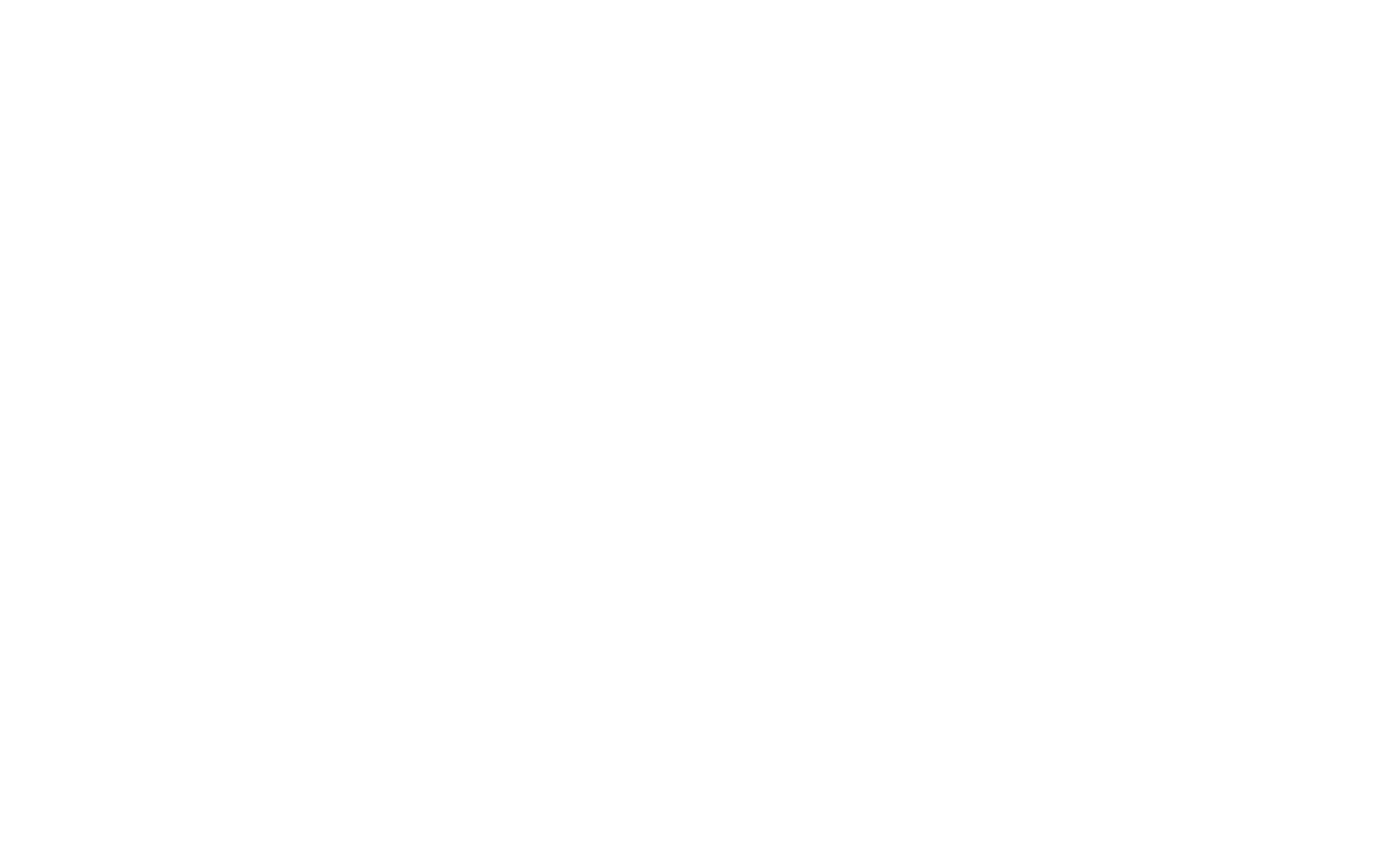
Фото: Софья Придворова
Пришлось мне стать директором чего-то пока непонятного для меня
В то время я начала стихийно брать еще по храму в год. Я подумала: этот храм в хорошем состоянии, значит надо помочь другим. Я связалась с архитектором Андреем Борисовичем Бодэ. Звоню и говорю: «Андрей Борисович, что ценно и что скоро рухнет?». Тогда такие вопросы редко задавали. И он сказал: «В Меландово есть очень интересный храм». Туда мы и направились в следующий раз.
В то время я начала стихийно брать еще по храму в год. Я подумала: этот храм в хорошем состоянии, значит надо помочь другим. Я связалась с архитектором Андреем Борисовичем Бодэ. Звоню и говорю: «Андрей Борисович, что ценно и что скоро рухнет?». Тогда такие вопросы редко задавали. И он сказал: «В Меландово есть очень интересный храм». Туда мы и направились в следующий раз.
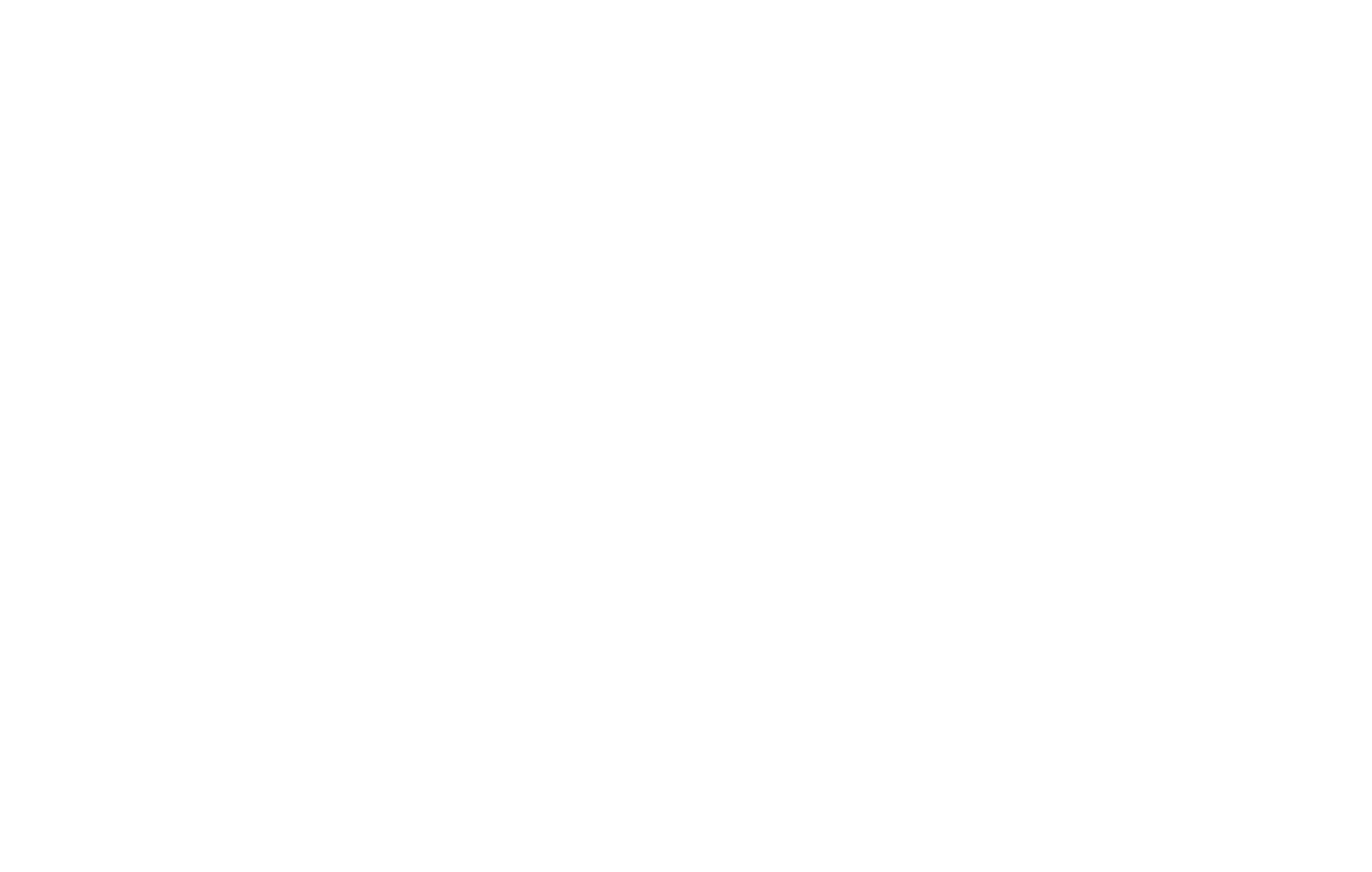
Меландово на календаре «Вереницы».
Фото: Софья Придворова
Фото: Софья Придворова
Вот как это организовывалось: я договаривалась со знакомыми плотниками, вместе с другом вкладывали деньги, получали разрешения на работы. Но это было еще как частная инициатива, и продолжалось четыре года. В 2013 году мой друг, Глеб Кузнецов, историк и автор сценария документального фильма «Атлантида Русского Севера», сказал мне: «Маргарита, ну что это такое? Надо делать фонд». Я говорю: «Какой фонд? У меня вечернее гуманитарное образование, я только детей умею учить». Но он обещал помочь все сделать, поэтому пришлось мне стать директором чего-то пока непонятного для меня.
Один раз мы брали интервью у человека, который делал дни деревень «Вереница». И вдруг Глеб говорит ему: «Женя, а можно мы у тебя украдем название?» Так и назвали фонд. Мне сначала это показалось странным, но, если честно, у меня тогда были маленькие дети, я шалела от этой работы. Глеб шутил: «Чем непонятнее, тем лучше». А название оказалось говорящее. Потому что мы и правда вереницей друг за другом идем на Север и всем по пути помогаем.
В 2013 году мы скинулись по 7,5 тыс. рублей и зарегистрировали «Вереницу». А дальше уже другие люди присоединились, в том числе многие из тех, с кем мы познакомились еще в 90-х на субботниках. Сейчас у нас в фонде начала появляться прекрасная молодежь.
Один раз мы брали интервью у человека, который делал дни деревень «Вереница». И вдруг Глеб говорит ему: «Женя, а можно мы у тебя украдем название?» Так и назвали фонд. Мне сначала это показалось странным, но, если честно, у меня тогда были маленькие дети, я шалела от этой работы. Глеб шутил: «Чем непонятнее, тем лучше». А название оказалось говорящее. Потому что мы и правда вереницей друг за другом идем на Север и всем по пути помогаем.
В 2013 году мы скинулись по 7,5 тыс. рублей и зарегистрировали «Вереницу». А дальше уже другие люди присоединились, в том числе многие из тех, с кем мы познакомились еще в 90-х на субботниках. Сейчас у нас в фонде начала появляться прекрасная молодежь.

Маргарита Баева и журналист Светлана Лылова общаются за чаем с булочками и вареньем из северной брусники.
Фото: Софья Придворова
Фото: Софья Придворова
Я не знаю места спокойнее Севера
Я Москву люблю, но Москва — это улей, а на Север приезжаешь и живешь спокойно. Я не знаю места спокойнее Севера. Там с людьми хорошо просто сидеть за столом, субботники проводить. Человек — природа. У меня есть северная подруга, директор местного бесплатного музея. Она говорит: «Если дело не решается, надо немного подождать». Я вижу, что люди Севера единолично ничего не решают. Звонишь им и предлагаешь: «Вот давайте субботник сделаем в таких-то числах». Они никогда не дадут ответ сразу — должны всех опросить.
На Севере не было крепостного права, там были удельные крестьяне — государственные. Они налоги платили, но были свободны, их не унижали, как нас, в средней полосе особенно. Люди Севера свободнее, чем мы, демократичнее. А еще у них все вкусное, там какая-то пища другая. Я не могу после Севера заходить в нашу «Пятерочку».
Я Москву люблю, но Москва — это улей, а на Север приезжаешь и живешь спокойно. Я не знаю места спокойнее Севера. Там с людьми хорошо просто сидеть за столом, субботники проводить. Человек — природа. У меня есть северная подруга, директор местного бесплатного музея. Она говорит: «Если дело не решается, надо немного подождать». Я вижу, что люди Севера единолично ничего не решают. Звонишь им и предлагаешь: «Вот давайте субботник сделаем в таких-то числах». Они никогда не дадут ответ сразу — должны всех опросить.
На Севере не было крепостного права, там были удельные крестьяне — государственные. Они налоги платили, но были свободны, их не унижали, как нас, в средней полосе особенно. Люди Севера свободнее, чем мы, демократичнее. А еще у них все вкусное, там какая-то пища другая. Я не могу после Севера заходить в нашу «Пятерочку».
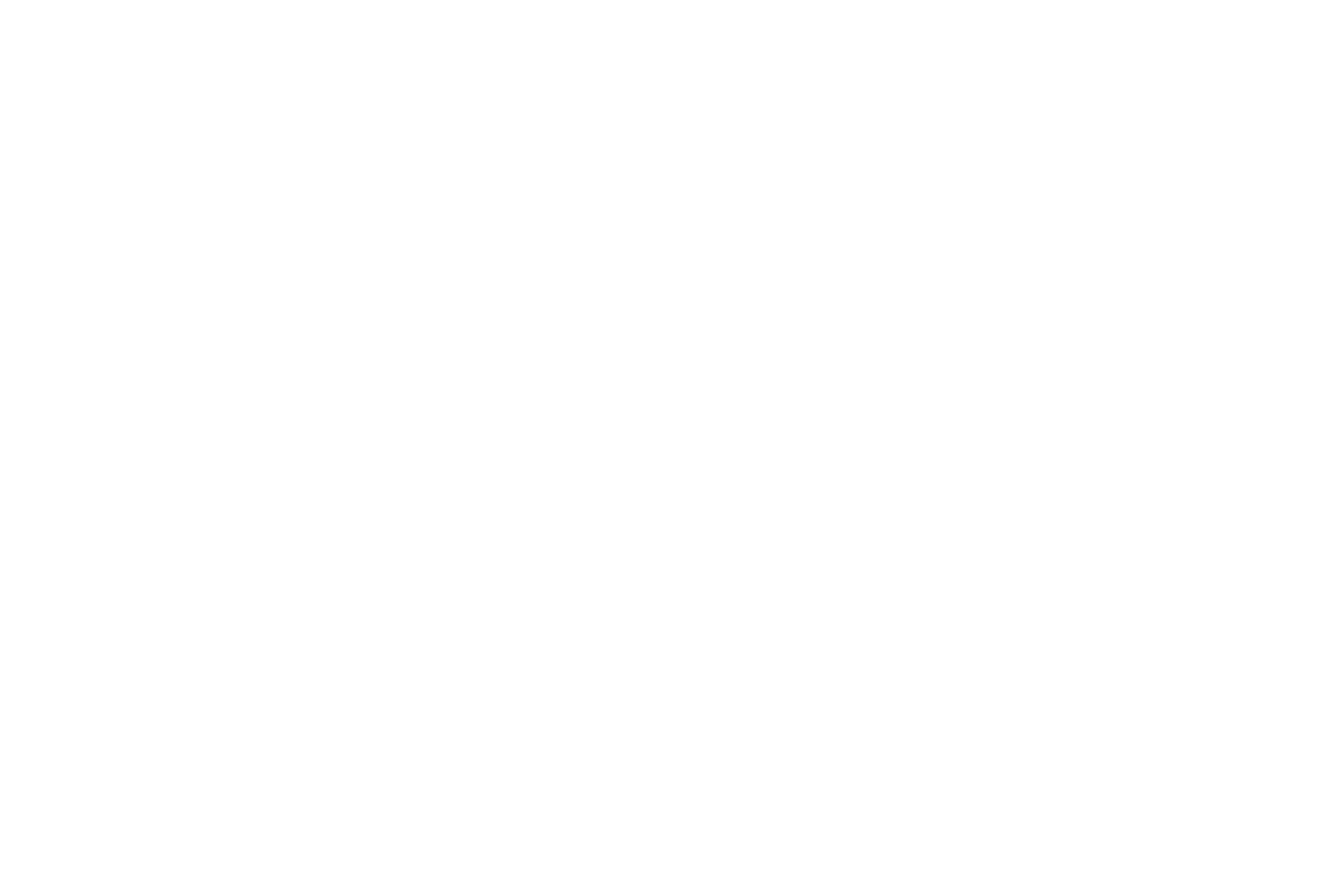
Вагончик и мастерская фонда «Вереница» в Москве. Здесь обучают плотницкому делу.
Фото: Софья Придворова
Фото: Софья Придворова
Главное — без фанатизма
Мои дети выросли в отрядах, они относятся с сочувствием и пониманием к памятникам деревянного зодчества. Они где могут — помогают. Старшая дочь стала реставратором старинной мебели. Она сейчас что-то реставрирует, и мы это возвращаем в деревню. А младшая в отрядах помогает, ездит в экспедиции. Главное, что без фанатизма, потому что все-таки это не их дело, а мое. Я очень не люблю этот героизм. Когда мы увлекались Юрием Ковалем, часто приходили к его подруге, жене поэта Якова Акима, в центральную детскую библиотеку. И когда она видела нас, наши горящие глаза, то с таким испугом говорила: «Девочки, без фанатизма».
Я быстро к людям привязываюсь
Много дает поддержка северян. Это очень хорошие люди. Они любят просто пообщаться. Нам важно, чтобы нас понимало местное население. Мне и моим друзьям нравится к этим людям ездить. Если мы объясняем свою позицию по памятникам, честно трудимся, всё в социальных сетях отражаем, общаемся с жителями, работы обычно проходят хорошо. В дальних деревнях сейчас остались самые стойкие. Они любят свою землю. Со многими людьми мы дружим, они наша вторая, северная семья. Я иногда уже боюсь ехать в отдаленное место: ты там кого-то полюбишь, но не сможешь приезжать слишком часто. Но обычно с северянами мы раз в полгода видимся, нас ждут.
Нельзя приезжать на Север только из-за храмов. Это совершенно бессмысленно. Конечно, надо сохранить старину XVII века, надо приехать и сделать работу. Но и из-за людей мы тоже приезжаем. Я очень люблю их. Где-то мы детскую площадку поставили, где-то ребятишек вывезли в путешествие. В Москву их привозили, в Архангельск, в Вологду. Мы и библиотеками занимаемся. Важно, чтобы люди не были лишены этой культурной ниточки. Из «Вереницы» у нас выросла большая группа помощи сельским библиотекам. Я считаю, что это огромная победа нашего гражданского общества.
Я знаю, что там надо сохранить человека
Я не реставратор, с 17 лет работаю в школе и не могу бросить ее. Часто ученикам рассказываю про Север. Интерес есть, иногда они волонтерят. Я веду ребят с малых лет — это как растить дерево. Вот я и ращу другие деревья — маленьких людей, потом они мне уже доверяют. Думаю, у меня хорошая судьба и профессия.
Но я не пожалела, что не стала лесником. Наверное, меня бы, девушку, все равно на лесной кордон никто бы не отправил, куда я хотела. Сидела бы в исследовательском институте, перекладывала бы бумажки. Но к Северу тянет. Я думала уехать через некоторое время: две недельки тут, две недельки там. Семья у меня ведь в Москве. А там лес. Минус 40 градусов не в городе — это вообще прекрасно. Гулять можно, только надо хорошо одеться: шапочка, валенки, перчатки — и все. Красиво в Архангельске зимой, особенно в мороз: замерзшая Северная Двина, обледеневшие пароходы. Солнце стоит багровое. И город живет, город на реке.
На Севере красиво. Там уникальные храмы, люди. Я знаю, что там надо сохранить человека. Если он сохранится на Севере, все остальное тоже сохранится. Это самое главное.
Мои дети выросли в отрядах, они относятся с сочувствием и пониманием к памятникам деревянного зодчества. Они где могут — помогают. Старшая дочь стала реставратором старинной мебели. Она сейчас что-то реставрирует, и мы это возвращаем в деревню. А младшая в отрядах помогает, ездит в экспедиции. Главное, что без фанатизма, потому что все-таки это не их дело, а мое. Я очень не люблю этот героизм. Когда мы увлекались Юрием Ковалем, часто приходили к его подруге, жене поэта Якова Акима, в центральную детскую библиотеку. И когда она видела нас, наши горящие глаза, то с таким испугом говорила: «Девочки, без фанатизма».
Я быстро к людям привязываюсь
Много дает поддержка северян. Это очень хорошие люди. Они любят просто пообщаться. Нам важно, чтобы нас понимало местное население. Мне и моим друзьям нравится к этим людям ездить. Если мы объясняем свою позицию по памятникам, честно трудимся, всё в социальных сетях отражаем, общаемся с жителями, работы обычно проходят хорошо. В дальних деревнях сейчас остались самые стойкие. Они любят свою землю. Со многими людьми мы дружим, они наша вторая, северная семья. Я иногда уже боюсь ехать в отдаленное место: ты там кого-то полюбишь, но не сможешь приезжать слишком часто. Но обычно с северянами мы раз в полгода видимся, нас ждут.
Нельзя приезжать на Север только из-за храмов. Это совершенно бессмысленно. Конечно, надо сохранить старину XVII века, надо приехать и сделать работу. Но и из-за людей мы тоже приезжаем. Я очень люблю их. Где-то мы детскую площадку поставили, где-то ребятишек вывезли в путешествие. В Москву их привозили, в Архангельск, в Вологду. Мы и библиотеками занимаемся. Важно, чтобы люди не были лишены этой культурной ниточки. Из «Вереницы» у нас выросла большая группа помощи сельским библиотекам. Я считаю, что это огромная победа нашего гражданского общества.
Я знаю, что там надо сохранить человека
Я не реставратор, с 17 лет работаю в школе и не могу бросить ее. Часто ученикам рассказываю про Север. Интерес есть, иногда они волонтерят. Я веду ребят с малых лет — это как растить дерево. Вот я и ращу другие деревья — маленьких людей, потом они мне уже доверяют. Думаю, у меня хорошая судьба и профессия.
Но я не пожалела, что не стала лесником. Наверное, меня бы, девушку, все равно на лесной кордон никто бы не отправил, куда я хотела. Сидела бы в исследовательском институте, перекладывала бы бумажки. Но к Северу тянет. Я думала уехать через некоторое время: две недельки тут, две недельки там. Семья у меня ведь в Москве. А там лес. Минус 40 градусов не в городе — это вообще прекрасно. Гулять можно, только надо хорошо одеться: шапочка, валенки, перчатки — и все. Красиво в Архангельске зимой, особенно в мороз: замерзшая Северная Двина, обледеневшие пароходы. Солнце стоит багровое. И город живет, город на реке.
На Севере красиво. Там уникальные храмы, люди. Я знаю, что там надо сохранить человека. Если он сохранится на Севере, все остальное тоже сохранится. Это самое главное.
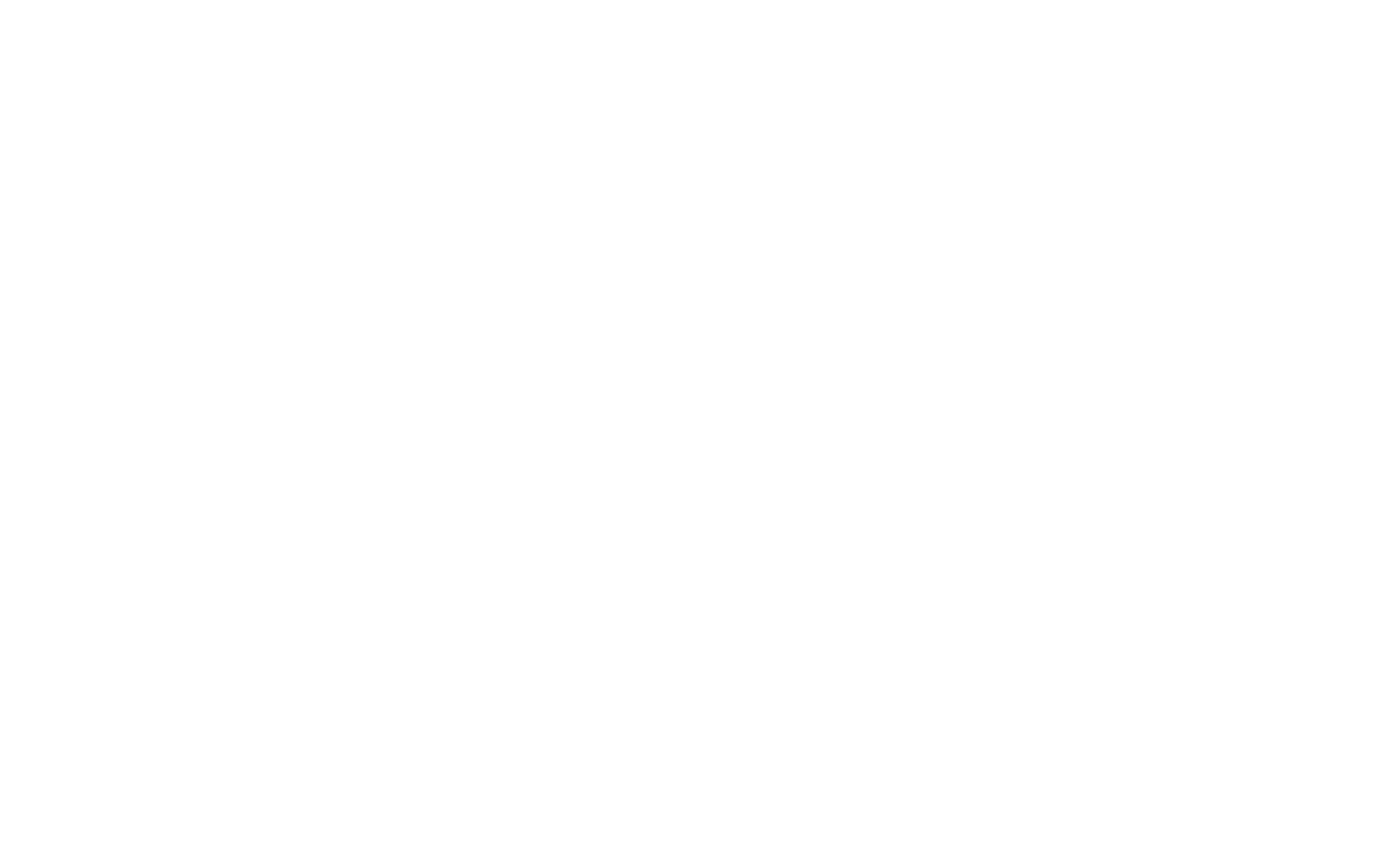
Карта Русского Севера в вагончике фонда. Вокруг нее — фотографии из реставрационных экспедиций.
Фото: Софья Придворова
Фото: Софья Придворова
Вам понравилась статья?
Что почитать еще?